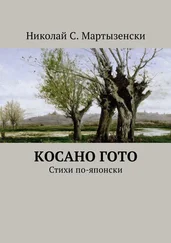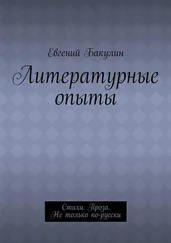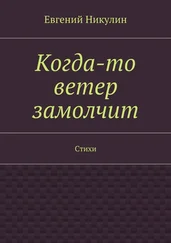Приказу нехотя подчинились, но звуки появились не все сразу, а проступали по одному, сначала тихо, а затем с нарастающей громкостью. Сначала, кажется, свистнул ветерок, потом далеко внизу машина пискнула тормозами, громко и требовательно постучали во входную дверь.
Уже ничего не хотелось, хотелось лишь идеальной, надежной и бесконечной пустоты. И еще хотелось, чтобы сам он и теперь невидимый Побережский стали какими-то второстепенными героями какого-то второстепенного сновидения, мгновенно кончающегося по приказу будильника. Но не было ни урочных ночных часов сна, ни будильника, а была тоска и тяжесть на сердце, будто бы его придавили камнем.
Зеркало опустело, и в комнате поэтому стало просторнее. Подождав еще немного – а надежна ли пустота? а надежно ли одиночество? – полковник Адлер неизвестно кому с укоризной сказал: «Я страдаю раздвоением личности, а вы из этого устраиваете балаган».
Слепец потерял свой посох.
Не может найти дорогу.
Стоит неподвижно.
Следует напомнить, что стучали во входную дверь. Открывая ее, полковник Адлер не думал о трости, до сих пор судорожно сжатой рукой, и о разгроме в комнате. И для того, и для другого существовали внятные, разумные объяснения.
Но, видно, что-то пугающее было во всем этом, так как стучавшие не ввалились внутрь шумной ватагой, а изумленно застыли в дверном проеме.
Люд пожаловал разный – незнакомый и неприятный. После молчания, продолжавшегося неизвестно сколько времени, наконец, заговорили. Заговорили все больше не по-русски или даже так – совсем не по-русски, ибо полковник Адлер не понимал ни слова, хотя перевод их жестов, их сочной артикуляции и слюнных брызг при особом уж зычном слове давался без особого труда. Явно демонстрируя свое недовольство, люди продолжали держаться пределов дверного проема и при этом все прибывали.
Таким образом сами собой образовались уже задние ряды и даже галерка: кто-то подтаскивал стулья и взгромождался на них, чтобы получше разглядеть собственно бенефицианта, который с угрюмым любопытством и озадаченностью – а что же дальше? – поглядывал на гостей.
Затем иноязычие понемногу стало рассеиваться, проясняться, вдруг послышались знакомые слова, сначала редко и по одиночке, потом все больше и больше. Прислушиваясь к ним, все замолчали, кроме двух, пробравшихся к авансцене, которые говорили между собой – один на плохом русском, другой – на хорошем, должно быть, немецком, и потребовалось еще немного времени, чтобы понять, что это не собеседники и что русская часть диалога является переводом того, что говорилось самому полковнику Адлеру.
А говорилось в общем-то следующее: некоторые странности замечались за полковником Адлером и прежде, прежде всего отстраненность его лица, эта вкрадчивость походки, эта странная в конце концов форма, вызывавшая у одних желание отдать честь и съежиться, а у других – отправиться с ним на охоту, ибо получила быстрое распространение и доверие сплетня, что господин щеголяет не в военном, но в егерском мундире и что своих собак – вертлявую свору он прячет в подвале китайской прачечной в соседнем квартале.
Последней каплей послужил этот ужасный грохот в комнате Адлера, сначала услышанный, а теперь и увиденный.
– Друзья мои, – возразил полковник Адлер, – но грохот нельзя услышать, здесь в ваших словах кроется явная ошибка. К тому же по сути интересующего вас вопроса позвольте сказать следующее…
Не позволили, стали возмущенно реветь.
– Я подожду, пока вы покончите со своей нечленораздельностью, – примирительно сказал полковник Адлер и, усевшись поудобнее в глубине своей огромной комнаты (выбрав для этого обломки кресла из красного плюша с когтистыми ножками, весьма когда-то уместными по случаю скользкого навощенного паркета), стал с интересом наблюдать за представлением, в котором, благодаря счастливому и уникальному стечению обстоятельств, ему одновременно отводились роли главного исполнителя и главного зрителя.
Это только сначала внутри головы все жгло и пекло, словно поверхность мозга была щедро посыпана перцем; теперь же все успокоилось и разгладилось. Переводчик вдруг заговорил на удивление правильно и красиво, то и дело сбиваясь то на нежную певучую рифму, то на чудесную прозрачную метафору так, что Адлеру со своего места захотелось прослезиться от умиления и даже подпеть.
Это они все только сначала казались грозными и недовольными, и Адлер, сетуя на свою изначальную оплошность, замечал, сколь приветливы и пригожи лица всех визитеров. Ото всех пахло каким-то особым, газированным, видно, одеколоном, усы мужчин лоснились и остро торчали по сторонам, а женщины щеголяли крохотными изящными папильотками. Дрессированные птицы сидели у многих на плечах – ну, попугаи и воробьи не в счет, а вот дрессированного страуса видеть прежде не приходилось, который тоже сидел на чьей-то шее, свесив вперед свои длинные мозолистые ноги.
Читать дальше