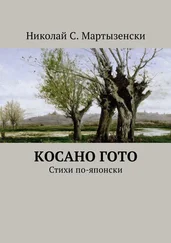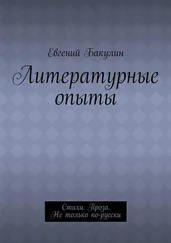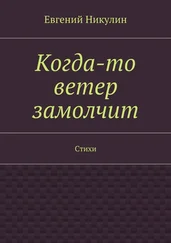С детства недолюбливающий кровь и по естественным причинам предпочитавший надежность в таком деликатном вопросе как собственная казнь, Брукс в письменном виде известил вышестоящее начальство, что выбирает смерть через повешение. Последнее было заверено быстро приковылявшим нотариусом, который с видом гурмана и всезнайки сказал Бруксу, что одобряет его выбор.
Итак, скоро его должны были повесить. Кто-то сказал ему, что его непременно повесят, и так жалко стало собственного горла, на которое посмотреть было нельзя (из-за отсутствия зеркала), но которое можно было повспоминать – гладкое, подвижное, нежное собственное горло, по бокам пронизанное двумя синими трепещущими жилками.
В таком-то – вспоминалось – и таком-то году, когда он был еще совсем юн, горло заболело, и пришедший доктор с чемоданчиком и при седенькой бороде предрек скорую смерть, поставив диагноз дифтерии.
Как же так, недоумевал Брукс, та самая дифтерия оказалась неопасной, а люди, которые теперь кружатся подле меня, являют самую что ни на есть смертельную угрозу. То же самое и о шее – хищный извив веревочной петли скоро навсегда прекратит в ней жизнь, а ведь совсем недавно еще, ну, скажем, года четыре тому, он явился домой под утро, и на шее, на шее! пунцовели пятна от поцелуев, выгрызенные прошедшей ночью девочкой-циркачкой: они встретились в опустевшем шапито, и прямо на арене, мягкой, темной и пахнувшей лошадьми, нежно боролись, переворачивая друг друга на лопатки, склеиваясь и разлипаясь с влажными звуками.
Где та девочка теперь? Неужто и вправду написали газеты, что она-таки сорвалась со своей проволоки и долго летела вниз, расставив ручки и ножки, похожая на нарядную куклу.
Растроганный этим нежным воспоминанием, он вдруг рассказал про него Коровко, и это немедленно привело к тому, что уголовное дело против Брукса превратилось в двухтомник. Том под номером два был посвящен убийству циркачки – оказывается, до выступления кто-то намазал проволоку салом и тщательно испортил все карабины на страховочных тросах. Девочка была приговорена и обречена, но начавшееся было следствие быстро зашло в тупик, и следователь, все тот же Коровко, мог лишь отметить изворотливость и находчивость убийцы.
Теперь же его интерес к Бруксу удвоился, а признайся он и еще в одном преступлении, то и утроился бы. Даже что-то вроде уважения сквозило теперь в каждом вопросе юноши к Бруксу, хотя хотелось не спрашивать, а в свою очередь тоже пооткровенничать, рассказать, например, про то, что и сам он отнюдь не безгрешен, про то, как из рогатки он еще в детстве наповал убил рыжехвостую белку, от страха потом грохнувшись в обморок. Не рассказал, хотя так хотелось обсудить перечень чувств, которые обуревают автора чужой смерти, ведь что белка, что человек – не все ли равно… Или случай другой, когда любовь, может быть, единственную настоящую любовь в его жизни своими точными движениями пресек безжалостный гинеколог, этот, как его, Генрих Гансович, но нет, об этом лучше молчок.
И, конечно, молчал, честь, понимаете ли, мундира, чистые помыслы, чистые руки, хотя – о, вот оно снова! – так иногда хотелось вновь пережить сладкий спазм того обморока, послевкусие страха, когда тело белки было брошено уже в муравейник, к этим безмолвным и работящим соучастникам преступления, которые с аппетитом уничтожили главную пушистую улику.
Брукс был в растерянности, мысли его как-то створаживались, уже не было никакой четкости и ясности в них, игра в безвинную жертву нелепых случайностей донельзя, до смерти наскучила ему прежде всего предрешенностью исхода. Уже не думалось о том, что в день казни осуществится волшебное раздвоение – какого-то ненастоящего, поддельного Брукса повесят, а настоящего – не тронет никто, и даже забудут, оставят в покое, и он вернется домой, сначала на трамвае, потом пешочком, потом на лифте, потом – здравствуйте, стены, пол и потолок моей любимой квартиры, здравствуй, моя засохшая герань на подоконнике, здравствуй, околевшая от многонедельного голода канареечка в клетке, здравствуй, мое собственное отражение в зеркале. Меня не было, но это был сон, а теперь я проснулся и теперь снова буду всегда.
Но не было никакого сна, а была грустная явь. Дело шло к суду, и с воли доносились слухи, что уже вот-вот начнутся репетиции присяжных.
Ангел-спаситель явился в образе Ивана Сергеевича Турегнева, который, упросив тюремное начальство на свидание с Бруксом, предстал пред его грустные очи в своем привычном облике – с какими-то нечеткими, размывшимися чертами лица, с каким-то невразумительным телом, с рядком покосившихся зубов, что обнажились при первых же словах. Слова же были важными и весьма интересными; речь шла о тайных письмах, которые Варвара Ильинична регулярно посылала ему.
Читать дальше