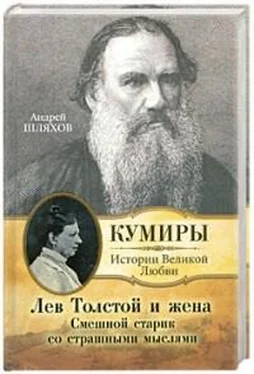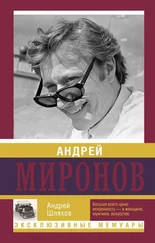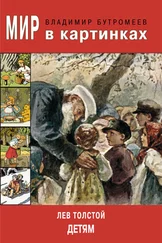Выход из тупика, выход из положения, в которое завела Толстого жизнь, был всего один — в небытие.
«Жизнь мне опостылела— какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтобы как-нибудь избавиться от нее. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя. Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению жизни, только в обратном отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение».
Торопиться не следовало — прежде надо было разобраться в ситуации. Однако соблазн был так велик, что Дев Николаевич поспешил убрать из своей комнаты шнурок, чтобы ненароком в один из вечеров, готовясь ко сну, не забыться сном вечным, повесившись на перекладине между шкафами. Заодно он перестал ходить на охоту, чтобы, по собственному признанию, «не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни» при помощи ружья.
«Я сам не знал, чего я хочу, — признавался Дев Николаевич, — я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем чего-то еще надеялся от нее».
Ему мерещился чей-то посторонний, или, правильнее будет — потусторонний взгляд, сама вечность наблюдала за его муками, всячески над ним потешаясь. «Невольно мне представлялось, что там где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30—40 лет жил, жил учась, развиваясь, возрастая телом и духом, и как я теперь, совсем окреп-нув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она, — как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни и нет, и не было, и не будет. А ему смешно...»
Тому, неведомому и незримому было смешно, а самому Толстому не хотелось ни смеяться, ни плакать. Но и покоряться было нельзя, покорность вообще была не в характере Льва Николаевича. До сих пор он жил так, как ему хотелось, пусть и не всегда бывая образцом для подражания, но жить свободно еще не означает жить правильно. Теперь же все, что у него было, оказалось пустым, никчемным, призрачным. И больше не могло быть ничего...
Подпорки, на которых держался мир, зашатались и рухнули.
Слабый человек, оказавшись в подобной ситуации, не нашел бы ничего лучшего, чем повеситься или застрелиться, но Толстой никогда не был слабым. Даже в минуты душевного упадка он оставался волевым человеком. Его волю можно было подавить на некоторое время, но сломать ее было нельзя.
Ни один из признанных мудрецов, будь то Платон, или весьма уважаемый Толстым Шопенгауэр, не мог дать ответа на вопрос: «Зачем?» Чем проще вопрос, тем труднее на него ответить. Вскоре Толстой разочаровался в той мудрости, которую накопило человечество, мудрости, которая при пристальном рассмотрении оказалась и не мудростью вовсе, а гак — игрой слов и мысли. Толстой писал: «Но, может быть, я просмотрел что-нибудь, не понял чего-нибудь? — несколько раз говорил я себе. — Не может же быть, чтобы это состояние отчаяния было свойственно людям. И я искал объяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи, — искал, как ищет погибающий человек спасенья, — и ничего не нашел».
И не просто не нашел, а разочаровался. «Я искал во всех знаниях и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно так же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние — бессмыслица жизни, — есть единственное несомненное знание, доступное человеку».
«Вопрос мой, — продолжал свою “Исповедь” Толстой, — тот, который в пятьдесят лет привел меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребенка до мудрейшего старца, — тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: “Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, — что выйдет из всей моей жизни?”»
Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать? » Еще иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»
На этот-то, один и тот же, различно выраженный вопрос я искал ответа в человеческом знании. И я нашел, что по отношению к этому вопросу все человеческие знания разделяются как бы на две противоположные полусферы, на двух противоположных концах которых находятся два полюса: один — отрицательный, другой — положительный; но что ни на том, ни на другом полюсе нет ответов на вопросы жизни».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу