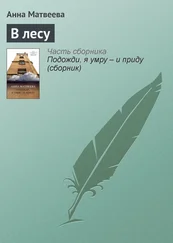Пионерский лагерь для меня – кошмар летней жизни. Я ненавижу все, что нужно делать коллективно, и единственное коллективное дело, с которым мне удалось себя примирить, – телевидение. Далекое от меня сейчас, как Северный полюс и Южный Крест.
Родители считали, что я преувеличиваю, и каждый год упорно совали мне под нос путевку в очередную «Березку». Я упорно ревела, но потом все равно уезжала в туманный, зеленый и ненавистный мир, где очень рано поднимали по утрам и очень гнусно кормили на протяжении дня.
Но в то лето все было иначе. У нас был новый вожатый – Гера Иовлев. И ради этого вот Геры я готова была терпеть воспитательные перегибы, и вечный голод, и невозможное детское одиночество.
Вожатый Гера Иовлев стал моей первой настоящей любовью, навсегда задав высокую планку и образец для будущих отношений и мужчин. Он был тонкий и смуглый, как мужчины на картинах Эль Греко, но при этом сильный и выносливый. И еще Гера был умный и содержательный, как целая библиотека, – неудивительно, что я влюбилась в пионервожатого после первой же линейки и зачарованно следила за ним из окон и кустов.
На мысль признаться в чувствах меня натолкнула Татьяна Ларина – я как раз дочитывала «Онегина». Как лихо у них получилось! Страниц всего ничего, а результаты налицо.
Ночью, далеко после отбоя, когда даже самые говорливые девицы из нашего отряда уснули, разметавшись на пружинных койках, я пошла в вожатский домик. Сердце бухало так, словно внутри маршировал железный дровосек.
У вожатых было темно, но железный дровосек внутри меня дал команду – и кулак, сжатый из ледяных пальцев, постучал в окно.
Через секунду показалась прекрасная, экономно вылепленная голова Геры – я забыла сказать, что у него были редкостно кривые зубы, но меня, как д’Артаньяна на момент знакомства с Бонасье, «не смущали такие мелочи».
Лунный свет добросовестно обрисовал кривые зубы Геры и его глубокий зевок – вожатый спал. Скорее всего он уснул пьяным – потому что из окна напахивало густо и кисло.
– Чего тебе, девочка? – спросил Гера, не узнавший меня.
Железный дровосек угрюмо вымолвил заветное «Я тебя люблю». И тут же зажмурился, то есть мы вместе зажмурились от ужаса. Зря, потому что Гера растянул губы в лукавой улыбке, помахал пальцем в воздухе – «шалишь!» – и произнес ту самую фразу, ради которой я и вспомнила сейчас эту историю:
– Девочка, иди спать! Ты должна ночью спать, а завтра – участвовать!
Окно затворилось. Униженный дровосек обернулся девочкой. Я вернулась в свою палату и до рассвета не могла уснуть, а потом проспала общий подъем. И долгие годы потом не хотела даже слышать о любви.
« – Важную я вчера у Голопесова индейку ел! – здохнул помощник исправника Пружина-Пружинский. – Между прочим… вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают… Берут карасей обыкновенных, еще живых… животрепещущих, и в молоко… День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом как их в сметане на скворчащей сковороде изжарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов! Ей-богу… Особливо ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь… в каком-то забытьи… от аромата одного умрешь!» Это Чехов. «Невидимые миру слезы». Я сама сейчас миру не видна, а из рассказов Чехова мама заставляла меня в детстве ежедневно списывать – по две страницы, чтобы я набиралась грамотности и разрабатывала душу. Поэтому у меня с Антоном Павловичем долго не складывались отношения – я только лет в тридцать его по-настоящему прочитала.
А вот Гашек: «Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью все комбинировать, приправу, скажем, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмет сначала всякой зелени понемногу, потушит ее в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же, простой повар разварит луковицу, а потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьем сале, – и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный терпим в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности – пропадешь. Вчера вечером в Будейовицах, в Офицерском собрании, подали нам, между прочим, почки в мадере. Тот, кто смог их так приготовить, – да отпустит ему за это Господь Бог все прегрешения! – был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из Скутчи. А те же почки в мадере ел я однажды в офицерской столовой Шестьдесят четвертого запасного полка. Навалили туда тмину, – ну, словом, так, как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении!»
Все про кухню, про кухню… Как назло попадается именно то, чего мне лучше не читать: я и так с трудом сдерживаюсь, чтобы не готовить с утра до вечера. Мама не любит мою кухню, считает слишком вычурной, а папа так боится обидеть маму, что всегда ей поддакивает. Здесь, в Пенчурке, я отлучена от любимых продуктов и питаюсь так, как ни за что не станут есть мои телезрители.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
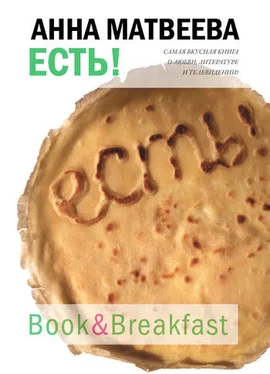
![Анна Матвеева - Есть! [litres]](/books/28219/anna-matveeva-est-litres-thumb.webp)