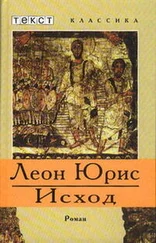«Лес рубят — щепки летят». Истинное понимание этой известной русской поговорки дошло до немцев лишь в лагере: их, трудармейцев — народных отщепенцев — действительно «летело» без счету. Покуда научились, покуда приспособились — загнулась как бы не треть новобранцев. При этом еще и загнуться требовалось с умом. Дело в том, что нормы выработки давались побригадно и понедельно, а пищевые пайки выделялись подушно и ежедневно, на основании вечерних и утренних поверок. Поэтому умереть в понедельник считалось большим свинством со стороны зека, то бишь трудармейца; ибо в этом случае зек с довольствия снимался в тот же день, а горбатиться за его норму бригаде требовалось еще целых шесть дней. Таким образом, трудармейцев, померших в понедельник, все недолюбливали, и каждый, у кого не было уже сил жить, старался помереть в воскресенье, или хотя бы в субботу.
Между тем норма на человеко-горб была велика, очень даже велика: приблизительно семь с половиной кубов за смену, составлявшую 14 часов каторжной работы.
Семь с половиной кубов в смену — это приблизительно двадцать пять сосен: смотря какая делянка попадется. Может оказаться и тридцать пять стволов, а может и до пятидесяти. Дальше шел «хворост», который не котировался. Тонкие деревья любили лишь новички: тонкие пропиливались легче, но вокруг них нужно было бегать бегом, чтобы успеть выполнить норму, а на бег уходили силы. Очень скоро новички начинали мечтать о сосновых борах с мачтовым лесом, когда одного дерева в час хватало для выполнения нормы. Но не знали новички, что даже эти счастливые четырнадцать деревьев в смену, означающие арифметически сорок два дерева на звено — это еще не норма. Потому что фактическая норма была намного выше: во-первых, за счет «запаса», который закладывало опытное лагерное начальство на случай падежа рабочей силы, не компенсированного вовремя новыми поставками рабов — а это происходило все чаще по мере того, как война истощала народный ресурс; во-вторых, за счет уголовников. Эти последние представляли собой беду любого лагеря — как для остальных, «нормальных», ни в чем не повинных, то есть «политических» заключенных, так и для самого начальства. Вообще-то уголовники в структуре трудармейских лагерей не предусматривались, но мало ли что не предусматривается в жизни, но становится потом вдруг неотъемлемой ее частью. Возможно, уголовников было так много, что традиционная пенитенциарная система, не способная всех их приютить, распределила их в том числе и по трудармейским лагерям; а может быть, их придали трудармии в качестве скрытой помощи администрации, которая понимала, что уголовники стоят к государству гораздо ближе «политических», и могут быть в умелых руках использованы лагерным начальством в качестве силы, держащей лагерь в страхе и послушании. Не исключено, что это была специфика лишь трудармейских подразделений лесоповального профиля. Но факт был налицо: как в первом лагере Аугуста, так и в следующем блатные составляли примерно пятую-шестую часть контингента заключенных и, соответственно, за эту пятую часть нужно было «ломать» норму: сами-то урки не работали, и их проще было убить, чем вложить им в руки пилу. Говорят, были попытки в некоторых лагерях приставить уголовных к созидательному труду, но все эти эксперименты кончались либо бунтами, либо массовыми побегами. Руководство скоро распознало, что блатных в лес лучше не выпускать, и приспособило их выполнять полезные функции внутри лагеря: в частности, более-менее грамотных уголовников ставили учетчиками. Еще уголовники любили резать хлеб, а их шестеркам дозволялось трудиться в сферах материального обеспечения, как то: на кухне, в пекарне, бане, санчасти, овощном цеху, на подсобном огороде, свиноферме или коровнике (там где таковые были, а во многих трудармейских лагерях они допускались и имелись — к большому удовольствию начальства). Поэтому уголовные, так же как и само лагерное начальство никогда не голодало, в отличие от трудармейцев, для которых каждая калория имела цену жизни, и которые очень быстро научались эти скудные перепадающие им калории распределять поштучно и помышечно, с постоянными корректировками на время года, дневную норму и еще десяток внезапных обстоятельств типа болезни, карцера или увечья.
Таким образом, регламентированная приказом по лагерю норма в двадцать два с половиной куба леса на звено за смену превращалась в реальности в тридцать кубов, и думать каждое утро, шагая в темноте колонной в сторону леса о том, что нужно успеть свалить до вечера девяносто — сто деревьев за сегодня, да еще штук двадцать в погашение накопившейся недельной задолженности… нет, об этом лучше было не думать, а просто пилить, пилить и пилить, уповая на Бога и на судьбу. В лагере вообще лучше всего ни о чем было не думать. Потому что думать — больно. А боли и так полно было — и в теле, и в душе: постоянной, безысходной. Так зачем мучить себя еще и раздумьями? День прошел, норма освоена? — хорошо. Неделя прошла, норма сделана, за это положена баня? — вообще отлично! А что будет через месяц? Что будет через год? Через десять лет? Это были глупые вопросы, которые никто не задавал, чтобы не прослыть чокнутым и не вступить на путь к «штрафбату» — в бригаду навсегда наказанных. Потому что какому нормальному бригадиру нужен чокнутый, на которого нельзя положиться, который, рехнувшись, в любой момент может вывалиться из трудового хомута, оголить звено, создать трудовую брешь в бригаде, в отряде: брешь, закрывать которую придется другим, возможно даже — ценою чьей-то жизни? Как в первобытной стае, общее выживание всех зависело в бригаде от физического состояния каждого. Востребованы в каждой бригаде были сильные, выносливые и стойкие духом. Чем больше таких, да еще, по возможности, живучих и удачливых удавалось бригадиру собрать к себе в команду, тем легче было всей бригаде в целом и каждому ее члену по отдельности. Все хотели попасть в сильную бригаду, чтобы иметь больше шансов выжить, но куда девать тогда слабых? Тех самых слабых, которых всегда и везде больше чем сильных? Понятно поэтому, что слабые имелись в любой бригаде, и недовыполненную ими норму приходилось вытягивать сильным, что порождало внутренние напряжения, которые сглаживать приходилось бригадиру, каждый раз решая сложную дилемму: перекладывать недовыполненную норму слабых на сильных, или доморить слабых до «штрафбата» и пополнить бригаду новыми бойцами. При решении этой дилеммы гуманистический фактор имел вторичное значение. Списать или не списать хорошего человека в «штрафбат», где он очень скоро загнется со стопроцентной гарантией? — вопрос состоял вовсе не в этом; хорошие и плохие люди — всё это были понятия мирной жизни. Здесь, в лагере система ценностей была другая: вся психология была подчинена только одному девизу: выжить. Соответственно, гуманным было только то, что служило этой цели. Это вовсе не означало, что каждый выживал в одиночку, карабкаясь по головам других, слабых. Скорей как раз наоборот: выживания ради люди сплачивались, объединялись, стояли один за другого, как солдаты в бою, и ценилось тут не доброе сердце, но цепкие руки и крепкий характер. Слабый, но упорный — такого тянули как могли; слабый и павший духом — такого сдавали на бойню без большого сожаления: возиться с павшими духом было некогда, все силы души и тела уходили и тратились на выполнение нормы — дневной, недельной, бригадной, отрядной: на этом концентрировалось все существо без остатка. Кого и когда сдавать — бригадиры решали это практически единолично, собственным жестоким приговором, если приходили к выводу, что лучше рискнуть заменой, как при игре в очко, чем тащить на себе ноющего слабака. В этом и состояла дилемма: сильного-то взять на замену неоткуда, а заполучить можно лишь другого слабака, который, возможно, еще хуже прежнего окажется. На таких бригадирских сомнениях только еще и держались последние надежды слабых, которые жили между отчаянием бессилия, надеждой выжить и ужасом от нависающего над ними «штрафбата».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу