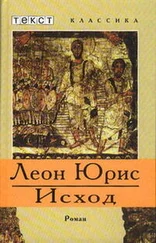Много лет спустя Аугуст случайно встретит на базаре в Павлодаре одного из бывших членов бригады, который торговал мясом кроликов. У него был орден на груди. «Сволочь ты, однако!», — сказал ему Аугуст. Старый коллега, как бы извиняясь пояснит, что с орденом легче получить на рынке место получше. «А где остальные?», — спросил его Аугуст. «Почти все уже померли, иные — в тюрьме сидят», — неправильно понял его вопрос бывший коллега и предложил: «Хочешь тоже? Мы с Юрцом поделили, у меня их много. Чего ты? Ведь то были геройские времена, правильно? Мы пахали, рискуя собственными жизнями, как на фронте? Пахали. Помнишь еще ящики с икрой? Для фронтового начальства. Ага! Это когда детишки в тылу с голодухи пухли. А? Было? А ты говоришь — «орден». Имей в виду: все говно, чего жрать нельзя. А что съел — то обратно в говно превращается. Ну чё: дать орден-то? Купи кролика…». Но Аугуст лишь махнул рукой и ушел подобру-поздорову, стыдясь собственных воспоминаний.
Но то будут уже совсем другие времена, когда народ привыкнет относиться к орденам с усмешкой и мало кто будет воспринимать их как святыню. Разве что звезды Героя Советского Союза или Героя Соцтруда будут еще котироваться: за сопутствующие блага типа бесплатного проезда в городском автобусе и льготную очередь на предоставление жилья. И еще за эстетику этих медалей: уж очень хорошо они смотрелись на портретах вождей: ярким золотом по черному полю… Лучшие люди страны получат по две, по три звезды Героя, а иные и в больших количествах. Правда, к тому времени уже и над звездами Героев народ начнет посмеиваться, пожимая плечами. Но то будет нескоро.
Трудно жилось Аугусту в Чарске, но Аугуст был молод, и каждую кислородинку употреблял ради будущего, а память старался отключать как фактор, мешающий жить, парализующий волю. Он научился жить без мыслей. Или только с минимальными мыслями. Потому что мысли будили отчаянье. А с отчаяньем было невозможно тяжело жить. Но жить было нужно: ради будущего. Аугуст не был пессимистом по натуре своей, и верил поэтому, что когда закончится война, то они вернутся в свой дом на Волге: мать, сестра, Вальтер, тетка Катарина — все, кто будут живы к тому времени. Поэтому Аугусту обязательно требовалось выжить. А значит, нельзя было думать. Про Вальтера и про отца — в первую очередь. И про дом, и про сталинский указ, и про замерзших в степи. Аугуст бежал к своим, или возвращался от них и невнятно бубнил себе под нос: «Да, тяжело. Очень тяжело. А кому живется легко во время войны? Но ведь все постепенно налаживается: наши остановили немцев… тьфу ты, черт: фашистов под Москвой, и даже погнали их уже. Скоро их попрут и попрут без оглядки: глядишь, к весне война и закончится. Все депортированные — уже под крышами, в тепле. Разобьют Гитлера — разберутся и с нами. Указ будет отменен. Все будет хорошо»…
— Vater unser… все будет хорошо, — бормотал на бегу Аугуст, мешая немецкий «Отче наш» с предсказанием Адама Сикорского и с собственной мольбой-надеждой, произносимой теперь уже все чаще на русском языке.
Аугуст вообще становился постепенно русским человеком — не в смысле национальности, а в смысле ощущения причастности к единой беде: много их было в Казахстане, несчастных депортированных немцев Поволжья, но и русских со всей страны было тут не меньше. И не только русских, но и корейцев, греков, венгров, финнов, итальянцев, румын: воистину, огромен и многонационален был народ, объявленный Иосифом Сталиным своими врагами. Но этим ли самым заложил великий Сталин основы истинному интернационализму, при котором бесправные немцы, корейцы, греки, чеченцы, венгры, финны, итальянцы и румыны стали братьями по одной, единой беде. Да, это было то самое братство, в котором чеченец без всяких плакатов и призывов стал братом немцу, и крымскому татарину, и белорусскому поляку.
Когда-нибудь закончится война. Преступления сталинского режима начнут порастать быльем-лебедой, люди по старой русской поговорке «кто старое помянет…» забудут все плохое, а еще потому забудут, что страшное помнить никому не охота. Аугуст тоже захочет все позабыть, но не сможет никогда. Например, не сможет забыть он, как на его народ свалилась трудармия: красивое слово, за которым скрывались все те же лагеря ГУЛАГа: рудники, шахты и лесоповалы, забравшие сотни тысяч жизней российского, немецкого народа. Трудармия стала отдельным миром, отдельной жизнью, отдельной эпохой.
Как забыть, например, такой эпизод из его лесоповального рабства?: в марте 1943 года их, трудармейцев, по тревоге выстроили однажды посреди ночи на плацу. Долго стояли зеки на ночном ветру, по нарастающей ожидая самого худшего. Затем пополз слух: сейчас будут зачитывать личную телеграмму от Иосифа Виссарионовича Сталина. «Какую еще телеграмму? — тревожно переглядывались зеки, — всех в расход, что ли?». Но дело оказалось в другом: целый год руководство лагеря не платило трудармейцам формально положенных им денег, отказываясь от них в пользу оборонной промышленности, с тем, чтобы отрапортовать в Москву, Сталину о собранных лагерем средствах для фронта. Это было очень важно для начальства лагерей: лагеря соревновались между собой кто больше соберет денег. Отчеты о собранных суммах начальники лагерей регулярно телеграфировали молниями в Москву, Берии. Зеков все это интересовало мало: они боролись за каждый конкретный день жизни, их волновали пайки, портянки и делянки; ценность для них представляли не деньги, но размеры паек и каждая минута спасительного сна, восстанавливающего силы. И вот поступил ответ из Москвы, и на плацу построили, украв драгоценный сон, едва живых от изнурения трудармейцев. «Может, на фронт пошлют?», — с надеждой спрашивали некоторые в шеренге. «Как же, жди. Всех — в ров!», — говорили другие, поопытней.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу