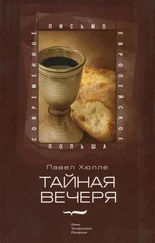Касторп отдавал себе отчет в том, что эти рассуждения, хоть и опиравшиеся на серьезные предпосылки, сумбурны и не могут привести к верным выводам, однако служили они совсем другой цели: как черная звезда, так и феномен морского воздуха позволяли не думать о тех двоих, оставшихся на веранде курхауса. На полдороге к Бжезно, близ рыбацкого поселка, Касторп, впрочем, отвлекся от своих размышлений. Наступив на что-то, он остановился и поднял кусок янтаря размером с грецкий орех; внутри покоилось насекомое, похожее на шершня. Держа в двух пальцах янтарь и разглядывая его на солнце, Касторп услышал явственную, хотя и заглушаемую шумом волн мелодию. Несмотря на кажущуюся беззаботность, она была какой-то очень трогательной, словно открывающийся из окна поезда пейзаж осенних полей, перерезанных сизыми дымами костров. Пела молодая девушка, которая, забрав у мужчин в лодке полную рыбы корзину и поставив тяжелый груз на правое плечо, несла его по широкой полосе пляжа. Босые ступни на каждом шагу с поскрипываньем погружались в песок, льняная юбка сдерживала движения, а свободно завязанный на голове платок сползал на глаза, мешая смотреть. Тем не менее, а возможно, именно поэтому девушка пела с такой самозабвенной радостью, будто все тяготы бытия были ей нипочем.
Песня, слов которой Касторп не понимал, заставила его замедлить шаг и тут же направила мысли на веранду курхауса. Ему почудилось, что случайно подслушанная там фраза, произнесенная слегка дрожащим, с хрипотцой голосом, то самое «Сколько еще мне мучиться?» адресована непосредственно ему и место ей — в глубине таинственного колодца, где память хранит смутные, расплывчатые картины, оживающие на краткий миг, чтобы затем вновь померкнуть и продолжить свое скрытое хрупкое существование.
В комнате матери пахло камфарой и болезнью, доктор Хейдекинд осторожно притворил за собою дверь, а отец, покинувший комнату минуту назад, молча сел за рояль и заиграл самую печальную песню из всех, что когда-либо были написаны. «Как ты можешь сейчас, когда она… — укорил его дедушка Томас. — Это же просто неприлично…» Именно так сенатор Томас и сказал: «неприлично», однако отца это ничуть не смутило, он продолжал играть с каким-то страшным автоматическим самозабвением, пока вышедший из комнаты матери доктор Хейдекинд не произнес: «Embolia cerebri, увы…» И тогда в квартире воцарилась глубокая тишина, прерываемая лишь тиканьем мейсенских часов да тарахтеньем пролетки за приоткрытым окном. Отец уже никогда больше не сел за рояль, с тех пор он целые дни проводил запершись в своем кабинете, а на его письменном столе росла белая гора корреспонденции, присылаемой из конторы, где он вообще перестал бывать. Однажды — незадолго до Рождества — Ганс Касторп увидел его у камина: стоя в небрежно наброшенном на пижаму шлафроке, он швырял в огонь неразрезанные конверты, а заметив устремленный на него пристальный взгляд сына, тихо проговорил: «Дай бог, чтобы тебе никогда не пришлось, как мне… запомни…», будто в чем-то оправдываясь, хотя прозвучало это скорее как жалоба.
Только в трамвае музыка вытеснила воспоминания. Никогда еще с ним не бывало ничего подобного: мелодия, которую отец наигрывал на рояле, и песня юной рыбачки странным образом звучали в его голове одновременно, чисто и безошибочно, нисколько не смешиваясь; можно было подумать, что Шуберт — автор первой мелодии — прекрасно знал и вторую или даже — что за абсурд! — сочинял свою песню о трех солнцах-призраках не столько под влиянием той песенки, сколько как ее отражение, однако не зеркальное, симметричное — нет, это было отражение на воде, то есть живое и беспрестанно меняющееся. Касторп с его склонностью к скрупулезному анализу воспроизвел в уме обе мелодии в виде математических функций, которые, перемещаясь в полной пустоте — будто в зоне абсолютной тишины, — резко расходились, чтобы через точно отмеренный промежуток времени пересечься в заранее назначенном пункте и тут же начать поиски собственного пути. А поскольку окно, у которого он сидел, быстро запотело (не без участия его насквозь мокрых туфель и штанин), Касторп начертил на побелевшем стекле обе эти линии и разглядывал их примерно с таким же чувством, с каким еще недавно наблюдал за взбаламученной винтом «Меркурия» морской пучиной.
Это музыкальное настроение, не покидавшее его до самой Каштановой улицы, куда он шел пешком от остановки Брунсхофер, испарилось, едва он переступил порог квартиры госпожи Вибе.
Читать дальше