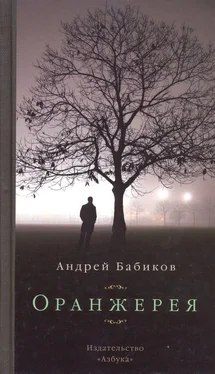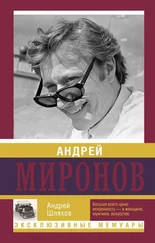«Какая же ты красавица, — глухо сказал он, не удержавшись. — Или мне это только снится?»
«А может быть, это ты мне снишься?»
Смешок, гримаска. Один зуб сбоку потемнел, придется удалить, милочка. Червивое яблочко. Сладкое, но испорченное. Шум воды становился все громче и грознее. В подернутом паром зеркале отражалось его худое лицо с продольными иезуитскими морщинами на щеках, серыми мешками под глазами, всклокоченной полуседой шевелюрой и красным следом от ее помады на шершавом подбородке. Он встал, снял рубашку и надел белоснежный махровый халат с легким лавандово-прачечным эхом в рукавах, аккуратно сложенный на полке. Хорошо бы сейчас выпить коньяку: да ведь человек, поди, уже спит, жалко будить, а ресторан закрыт. Надо повесить рубашку на батарею отопления, чтобы до утра высохла, и поискать запонку.
Оставив ее одну в ванной, он вернулся в комнату и зажег свет. Его наручные часы, внезапно сойдя с ума, показали полночь. Подушка была сброшена на пол порывом страсти. Бежевое покрывало было откинуто одним решительным жестом. Любовно приготовленная кем-то постель была безжалостно смята. Место имения — как сказал бы Сережа Лунц: non mihi, non tibi, sed nobis [60] Non mihi, non tibi, sed nobis — не для меня, не для тебя, но для нас.
.
Он собрал с полу разбросанную одежду. Когда она успела так разложить свое платье на стуле? Она плескалась и пела в ванной, пела и плескалась. Потом разом завернула краны, и в номере вдруг стало слышно, как за окном шелестит дождь. Настал его черед омыть чресла. Стоя у замутненного паром зеркала, в халате, слишком просторном для нее, она хлопотала со своим маленьким личиком. Теперь, без краски на лице и в шлепанцах, она могла бы сойти за его дальнюю родственницу из провинции, приехавшую погостить.
«Здесь, наверное, последнее место в городе, где еще есть горячая вода, — сказала она, втирая крем в щеки и выпуклый лоб. — Ох, ну и денек же у меня был сегодня. Никогда еще я так не...» — Окончанье фразы утонуло в сладком зевке. Открыла кран в раковине. Вынула из сумочки зубную щетку в футляре. Предусмотрительно. Любопытно все-таки, как давно она этим промышляет в отелях? И кто ее клиенты? Те двое англичан в ресторане? Человек с газетой? Надеюсь, хотя бы обошлось без пастора.
Скинув халат, Марк полез под душ. Волосы у него на груди были сплошь седыми. Снежный человек. Сквозь тонкий слой жира просвечивали брюшные мышцы — хвала комнатной гимнастике Мюллера. Куда она задевала шампунь? Ах вот, под мочалкой. Ее длинный пепельный волос вплелся в искусственные волокна рыхлой голубой губки. Он с треском задернул занавеску и переключил стержень крана на верхнюю струю. С минуту постоял под душем, закрыв глаза и, как говорится, прислушиваясь к себе. Время все еще двигалось скачками, как пришибленная крыса. Вода была даже слишком горяча, и он настроил кран на пол-октавы ниже. Несколько неосмотрительно пролитых капель прилипчивой слизи успели высохнуть на его шерстяных бедрах и с трудом оттирались. Отвратительно, как морщина молочной пенки на белизне фаянса. Ага, вот еще на боку. Всегда где-нибудь немного, да останется. Как ловко, можно сказать, виртуозно она облачила его в желтый чехольчик, совсем не сбив с толку болванчика. Умеют обращаться с такими вещами, ежедневно натягивают на себя тонкие чулки: зацепишь ногтем — и пошла «стрелка», все старания насмарку, пять марок коту под хвост. Есть в этой гигиенической заминке что-то от процедурной комнаты с забеленными до половины окнами и клеенчатой кушеткой. Сестра милосердия не скрывала усердия. Да, да, поскорее, о! Время — деньги. Раньше дашь, скорей возьмешь. Главное, чтобы пациент остался доволен.
Он смыл последние следы их близости. Все улики уничтожены, сэр, — если не считать того, что на губах до сих пор ощущался солоноватый вкус ее лядвий. Нельзя все-таки быть таким олухом, пора бы научиться вести себя осторожней, да какая тут, к черту, осторожность.
За полупрозрачной шторой ее тень, склонившись над шумевшей раковиной, шустро работала локтем. Закрыла воду.
«Пойду выкурю папироску перед сном», — сказала она, вновь беспомощно зевая, и вышла из комнаты.
Когда он, посвежевший, влажновласый и абсолютно трезвый, вернулся к месту их случайной случки поперек широкой кровати, она уже, разметав волосы по подушке и приоткрыв рот, беззвучно спала. На ключице посверкивал золотой ключик В хрустальной пепельнице на тумбочке, что с ее стороны, лежал раздавленный червь недокуренной папиросы. У нее и у него время явно шло по-разному, он то и дело отставал, спотыкался, никак не мог ее нагнать. Марк открыл окно, чтобы выветрился табачный дым. Внизу холодновато блестела пустынная мостовая. Все ли будет разом кончено, если прыгнуть с такой высоты, или придется еще лет двадцать дремать в инвалидном кресле? Он обошел кровать и, не снимая халата, лег со своей стороны. По потолку крались вороватые тени. Мелко тикал его старенький «Улисс». Дождь, похоже, перестал. Вдруг он явственно услышал глухой звук далекого выстрела, как будто лопнул тугой пузырь тишины: «ах!», и через секунду, с отвратительной поспешностью, подряд еще два сухих хлопка: «ах! ах!». Марк повернулся к Марии: не проснулась ли? Она лежала на боку, лицом к нему, одну голую руку положив поверх одеяла, другую спрятав под подушку. От нее все еще слабо пахло олеандром и мускатом — «конечная нота», как говорят парфюмеры. Сон, разгладив ей черты, как будто снял с нее еще один тонкий слой лет, а уличные тени скрадывали недостатки кожи, стирали морщины, и теперь Марк со смутным ужасом глядел, как она стремительно молодеет, превращаясь в его давно забытую юную любовницу, гимназистку на усыпанной желтыми листьями веранде, соседскую девочку на велосипеде, его десятилетнюю дочь, уснувшую с альбомом почтовых марок на коленях. Странное дело, он не испытывал к ней больше никакого желания. И было что-то дикое в том, что он лежал с этой обнаженной и абсолютно незнакомой девицей в одной постели. Кажется, даже не спросила, как его зовут. Да, еще, милый, еще, о! И подумалось между прочим: вот и жизнь прожита.
Читать дальше