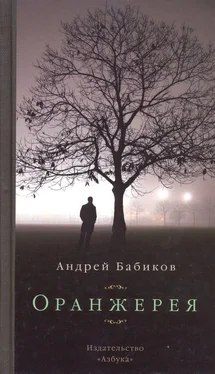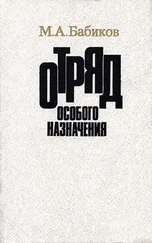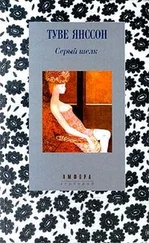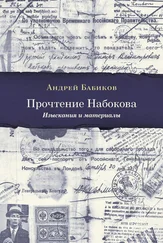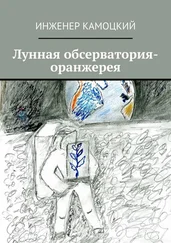Недавно один избалованный вниманием бульварных газет фиумский профессор, пользующийся некоторым успехом среди ценителей скептической хрипотцы и охотников пожимать плечами по любому поводу, напечатал укоризненную статью с игривым названием «О пределах определений», в которой позволил себе усомниться в достоверности «некоторых документов», относящихся к истории «так называемого княжества Малого Каскада», — на том веском основании, что-де его собственное имя не значится в списке блестящих экспертов, признавших их подлинность. На это ему резонно заметили, что зависть не лучшее подспорье для разыскания истины, что уродство эрудиции зачастую проявляется в забвении этики, а мнимая ученость хуже самой мнимости в науке и что, прежде чем оспаривать ценность чужого открытия, следует для начала взять на себя труд ознакомиться с ним. Тогда разъяренный профессор опубликовал «открытое письмо» (жанр, сомнительный во всех отношениях) редактору научного обозрения, где был напечатан возмутивший его ответ, в котором бесстыдно заявил, что «в его распоряжении имеется около дюжины письменных свидетельств различного происхождения, из которых неопровержимо следует, что ни государства Каскада вообще, ни „Странной Книги" в частности никогда не существовало». На просьбу предъявить хотя бы часть столь важных «свидетельств» последовало, как можно было ожидать, насупленное молчание. Несколько месяцев спустя, на симпозиуме медиевистов в Турине, группа немецких историков обратилась за разъяснениями к знаменитому академику Гринбергу, ученому колоссальной эрудиции и безупречной репутации. Однако, к всеобщему смущению, восьмидесятилетний академик простодушно ответил, что он ничего не слыхал ни о какой «Странной Книге», так как последние пятнадцать лет он все свое время посвящает работе над десятитомной «Историей города Альтоны». Стоит ли говорить, что этот его ответ, слегка подправленный, тут же был опубликован как «авторитетное мнение светила исторической науки, после которого уже невозможно всерьез говорить о подлинности сербского манускрипта».
Впрочем, эти журнальные дрязги, с их более чем скромным набором метафор (очернить, опорочить, бросить тень), слишком скучны, чтобы подробно писать о них. И то сказать: нам-то что за дело до истерик продажных историков или до «сенсационных разоблачений» провинциальных публицистов? Если близорукий «ценитель» живописи не замечает на волшебной картине за бархатной занавесью подернутой дымкой холмистой страны в узорном окне (далекая туча, туманные острова, нежная лессировка заката, крошечный рыбак в красном плаще, несущий снасть), это вовсе не значит, что ее там нет. Анонимный автор «Странной Книги» (что значит «страннической», книги странствий) в одном месте мимоходом выражает свое восхищение недавно изобретенными во Флоренции «rodoli de vero da osli per lezer» («круглыми стеклами для глаз, чтобы читать») — нацепим на нос очки и мы и вглядимся в заоконный ландшафт попристальней.
1
Скудный таврический берег показался странникам диким и неприветливым. Оставив корабли в бухте Лусты, Матгео чуть свет, в лучшем своем дуплете с жемчужными пуговицами, отправился на малой галере в замок генуэзского Консула в Каффу — с прошением и подношением.
День обещал быть погожим, черная грозовая точка на северо-востоке была не больше оливковой косточки. Дул попутный, хотя и слабый юго-западный ветер. Гребцы мерно поднимали и опускали длинные весла, скрипевшие на истертой постице. Прочь от берега с криком неслись желтоклювые, розоволапые, серокрылые, белогрудые чайки. Комит, до черноты загорелый босниец, хаживавший вместе с Маттео от Китая до Ютландии, прогуливаясь по куршее, следил за тем, чтобы гребцы не зевали. Маттео, сидя на корме под балдахином, диктовал писцу положения общинного устава странников, от которого до наших дней сохранились лишь заголовки статей: «О власти ректора», «О Большом вече», «О ремеслах и цехах», «О содержании нищих», «О торговых днях и празднествах», «О терпимости к инакомыслящим», «О мерах против пожаров», «О покупке зерна впрок и запасах»... На низком походном столе перед ним была разложена довольно точная генуэзская charta Крымского берега («Taurica Chersoneso»), потрепанные края которой были прижаты медными плошками. Крестиком недалеко от Лусты им было отмечено изрезанное бухтами место, где он намеревался основать свою маленькую колонию.
Читать дальше