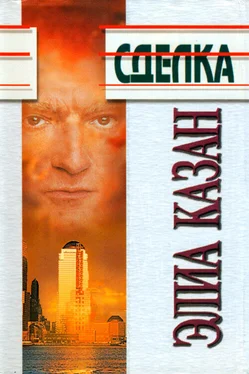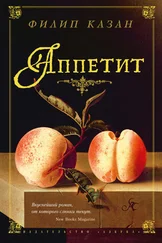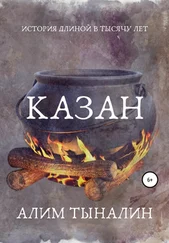Я аккуратно перекинул через руку сари и закрыл сундучок. Пусть его содержимое покроется прахом забвения. Как теннисный корт. Как та жизнерадостность, царившая некогда в душе матери. Отброшенная за ненадобностью, как ее женственность, оставшаяся неиспользованной, как ее человечность.
Ради чего такое богатство отставили в сторону? Где свидетельства прожитой жизни? Где отпечатки следов победителя?
Я спустился на два этажа ниже. Четыре комнаты. В комнате отца (они спали раздельно, сколько я себя помнил) на столе лежал поднос, на нем — пузырьки с таблетками. Все! Очень аккуратная комната, без следов жизни в ней.
А где отец прожил жизнь? Где следы вещей, которые он ценил?
Затем я увидел ту фотографию.
Ту самую. Их делали в то время серо-коричневыми.
Дагерротип с мягко очерченными линиями. Единственный снимок на стене. Ни сыновей, ни жены на этом снимке не было. Не было ни его магазина, ни складов, ни Национального городского банка, ни его восточных ковров и подстилок. Ни его закадычных друзей по покеру. И мы, и они так мало значили для него. Была лишь эта фотография.
Гора Аргус: высокая, со снежной шапкой, гора, что возвышалась над городом отца в Анатолии. Аргус — величественная, чистая, совершенная в пропорциях гора. Бабушка, когда жила, не уставала рассказывать про нее: как потоки воды стекали с вершины все лето, как цвели сады, где были места для пикников и где на склонах стояли летние домики. Вот она — предмет незатухающей тоски и боли моего отца, единственный драгоценный для него снимок.
Гора с фотографии, казалось, требовала у меня подвести черту под жизнью, казалось, требовала вынести вердикт. Что ты думаешь, говорила она, каковы твои настоящие мысли? И если бы меня заставили дать ответ и вынести вердикт, я бы сказал, что вся жизнь моей семьи, отданная этой стране, оказалась неудачей. Страна сама, может, и не виновата в этом, но роковое влияние времени и настроение людей в те дни — вот в чем надо искать причину случившегося. Символы достигнутого богатства оказались ничего не стоящими даже с позиций рынка. Заработанные деньги превратились в ничто. Они выяснили это в 1929 году. А что же остальные приобретения — дома, мебель, машины, рояль, одежда, земля? Они тоже ничего не значили. Эти люди, восторженно испускавшие крики радости — «Америка, Америка!» — на стыке веков, приехали сюда в поисках свободы и прав личности, и все, что они нашли здесь, было свободой делать столько денег, сколько сможешь.
Я взглянул на Аргус. Бабушка утверждала, что именно к ней, а не к Арарату, причалил свой ковчег библейский Ной. Он сам, его родственники и скот спустились вниз по склонам Аргуса. Легенда была красивая, если представить картину.
Зачем моя семья покинула такую красоту? Какие-то причины, конечно, были, но этот вопрос точил сердце отца: что же он приобрел, иммигрировав сюда, такого, ради чего стоило приезжать через океан? Он задавал себе этот вопрос, я уверен. Иначе не только эта фотография украшала бы стены его комнаты. Снимок жил в его душе. Они оставили страну с потоками воды, текущими с гор, с фруктовыми садами и прочим, всем, о чем не переставая говорила бабушка, они уехали, чтобы найти лучшее место для жизни, а нашли лишь место, где лучше делать деньги.
Огонь и вода! Я подумал, а может, отец жил надеждой на еще один всемирный потоп, который заставил бы его уплыть обратно и, как Ной, пристать к склону горы Аргус. К фруктовому саду, к виду водопадов…
Уходя, я взял из комнаты отца только эту фотографию. Вот и все, что я захотел взять из этого дома.
Спускаясь по ступеням в столовую, я заметил на полу коврики. Они годами лежали в магазине у отца, не находя покупателей. Потом он сдался и принес их домой. Я помнил и обстоятельства приобретения мебели. Магазин в Толедо задолжал отцу крупную сумму денег. После разорения магазин расплатился с отцом этими деревянными чудищами.
Таким же образом нам достался рояль, инкрустированный, с завитушками рококо по бокам и углам, с ножками в виде геральдических животных. Он выглядел как прихоть нувориша, но был моим старым другом.
Играя на нем, я вспоминал одно жаркое воскресенье в Нью-Дели, когда от безделья я выбрался из гостиницы и через старую часть города отправился на природу. Там, вдоль невысокого кряжа, толпились люди. Я пошел к ним, потому что, казалось, они что-то празднуют, так счастливы были их лица. Подойдя ближе, я увидел, что они складывают хворост и ветки деревьев вокруг тела мертвеца. Труп сидел в кресле, голова немного склонена набок. Это была старая женщина, и по тому, как она сидела, было видно, что кресло — ее любимое! Я спросил, кто она, и люди охотно и радостно ответили, что она была святой. Под этим они имели в виду ее доброту. Женщина сделала им много хорошего, и всем им она была другом. Она только что умерла от болезни, «пожирающей внутренности», — от рака. Все это они рассказали без горечи и печали, даже без сожаления. Они воспринимали смерть как естественный конец жизни и ничего более. Почему ее друзья должны грустить? Женщина прожила долгую жизнь, и сейчас пришло время отпраздновать это. И еще, добавил один мужчина, мы празднуем то, что живы сами и что нам еще далеко до смерти. И хотя их жизнь изменится, станет хуже без такой замечательной женщины, они считают, она сама желала бы, чтобы ее смерть отпраздновали весело, чтобы возрадовались тому, что они сами живы. Он дал мне кусок дерева и предложил возложить его на кучу хвороста. Что я и сделал, думая, что здесь это одобряется и это празднуется, а одобрение и праздник — одно и то же. Мы еще живы — вот и празднуем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу