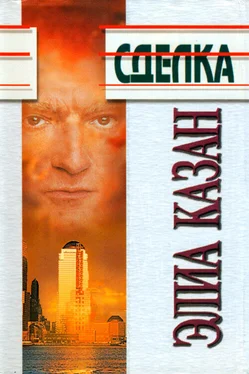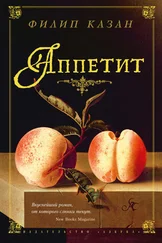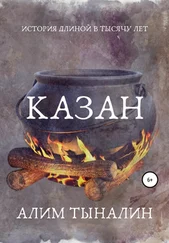— Что они хотели? — спросила она.
— Прощения, — ответил я.
— А за что?
— Не спрашивал.
Она рассмеялась. Лед раскололся. Но я решил подождать, что скажет она.
— Я не могу, Эв, — сказала она минуту спустя. — Я больше не могу.
— Больше не надо, дорогая, — сказал я.
— Я прихожу сюда каждый день и сижу. Но к нему идти не хочу.
Ее силы были на исходе.
Мы сидели: союзники в войне, начатой многие годы назад. Смысл войны исчез, противник побежден, а мы остались победителями без трофеев. Я не знал, куда обратить свою радость или печаль: лично мне никогда не требовалось сражаться с противником. Флаг моей матери гордо реял. Оттесненная на задворки, как того требовала старая традиция мира, служанка мужу, она верно выполняла предписанное ей. Отдавалась в его объятия, рожала ему детей, готовила ему пищу, стирала его белье, убирала его дом, развлекала его гостей, несла свой крест с достоинством и, никого не упрекая, отдала ему всю свою жизнь. В любой мелочи она была безупречна. Во всем, кроме одного. Решение, чтобы старший сын не пошел по стопам отца, было принято ею. Она разрушила для меня стены гетто греческого образа жизни и поощрила идти в жизнь, в Америку. Когда мне исполнилось 15 лет, она заставила меня почувствовать, что отныне я отделен от отца и могу делать то, что захочу. Она разбудила во мне стремление жить по-своему, а не по предначертанному отцом.
Она была замужем за человеком, который вставал утром с постели, чтобы весь день посвятить деланию денег. Даже его отклонения от главного занятия, ипподром и карты, были продолжением навязчивой идеи его жизни: выбивания из другого парня того самого доллара. Таков был образ его жизни, и он был так непререкаем и твердолоб, что имел силу тайфуна.
Поэтому, чтобы не поддаться натиску, она вынуждена была научиться искусству сопротивления. Вскоре после замужества ей стало ясно, что, встань она открыто против него, он разнесет ее на части. Но если она вязко, как вода, разливается после его мощных ударов, затем возвращается на место — то в этом случае, подтачивая год за годом его незыблемость, она может достичь цели.
Эту тактику она передала мне. Она въелась в мою плоть и кровь. Тактика перешла в меня и даже стала мной самим, ибо кто мы, как не то, как мы живем. Мать научила меня достигать цели окольными путями: от матери я впитал действенность молчания. Она создала мою маску — маску уступчивости. Мнимой. Это от нее я научился напускать дым равнодушия на предметы, интересовавшие меня в высшей степени, держать роль, избегать внимания и не освещать желаемое. Это она научила меня упорству, она научила шаг за шагом идти к цели, не отвлекаясь ни на то, ни на другое, молча и тайно идти. Я узнал от нее, как надо жить на территории, оккупированной противником, и как побеждать, в то время как все думают, что голова склонена перед его гегемонией.
Я прошел школу матери.
И поскольку видел отца я от силы час в день и еще меньше по выходным, ее уроки по выживанию в доме приходились на время ужина и последующей игры в карты.
Требования отца к ужину отличались жесткостью. Закон первый гласил: «Никаких консервов!» Это было обязательно всегда. Все фрукты и овощи должны были быть свежими. Второй закон: пища должна быть приготовлена качественно, он терпеть не мог вида крови в мясе.
Ел он отчаянно быстро, поглощая еду прожорливо, как животное. Чистое насыщение ценилось им превыше остальных требований к желудку. Если он ничего не говорил, это значило, что старания матери его удовлетворили.
Она редко ела при нем. Обычно стояла немного сзади и смотрела, как блюда исчезают у него во рту, и добавляла из кастрюли. Пища исчезала в течение нескольких секунд. Затем он издавал урчащие звуки, долженствующие показать его удовлетворение, куском хлеба вытирал соус на тарелке. Никаких разговоров.
Его единственной нежностью были фрукты. Сладкий белый виноград, столь любимый им, напоминал ему о винограде, который рос на анатолийском высокогорье, в деревне его детства и юности. Там же росли и абрикосы, и зрели они на деревьях, а не в ящиках на рынке. Поэтому если он видел виноград этого сорта или зрелые абрикосы, то не думая покупал их и приносил домой.
Мать тоже покупала фрукты где только можно. Но он отличал, какие фрукты купила мать, а какие — он. Выбор матери только доказывал лишний раз то, что не требовало доказательств, — никто, кроме него, не мог выбрать достойный экземпляр. В нем билась жилка утонченного ценителя. Он брал в руки дыню и погружался в ее исследование, вертя ее во все стороны, находил точку, самую мягкую, самое брюшко дыни, совал к ней нос и втягивал в себя запах. Так он решал пригодность дынь. Арбуз он обхаживал по-другому. Он взвешивал его в руке и шлепал по нему, затем как-то особенно оглядывал его. Я так и не научился этому искусству. Секрет он унес в могилу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу