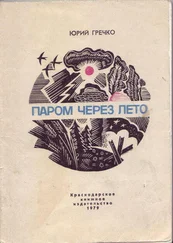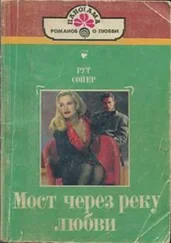Вот приперло, так уж приперло, думал отчаянно Лешаков. Хорошо хоть раскусил, а то жил бы дурнем… Незаметный, неприметный, — зло передразнил он себя. Получается, вроде живешь и что-то знаешь, а главного не ведаешь. Думаешь, все пока ничего, все ладно, все путем. А на тебе крест давно стоит. И сам ты на крючке.
Что уж было анекдоты вспоминать и разные разговоры в курилке. О чем только в курилке не говорят, а Лешаков разве святой. Если бы знал, что на крючке или под колпаком, как нынче называют, он бы поостерегся. Тем более, что личных мыслей супротивных не имел. Был он как все. И разве виноват, что повторял частенько то, что от других слышал. А народ последнее время такое говорит, — не приведи. Не многое Лешаков высказывал. Совсем не многое. Но не важно, многое или не многое, когда на крючке. И это Лешаков понимал. Какая уж там могла получиться Польша, — с этакой лояльностью и в Эстонию не выпустили бы.
Да с какой такой лояльностью, горячился Лешаков. Разве я против когда был? Или несогласный?.. Я новый костюм купил, ехать в Польшу, чтобы в старом пиджачке престижу нашему не повредить. Я всегда со всеми, с народом! А они… Разве можно взять человека и под колпак. Одного. Под лупу, где каждое движение преувеличивается. Какая же им нужна правда? Разве под лупой может хоть какая-нибудь правда выдержать?
Не было в том правды. И права такого ни у кого быть не должно, уяснил Лешаков и постиг окончательно, какую непоправимую над ним совершили несправедливость.
Давно он такого страха не испытывал, чтобы мир вдруг показался с овчинку. Ноги подкосились, захотелось уползти, спрятаться, скрыться. Но бежать было некуда. Лешаков яростно осознавал: семь лет в конструкторском бюро — плевать на семь лет, но впереди, что впереди? Впереди ничего не светило. Вот чего был лишен Лешаков. Вот самое страшное. Непоправимая несправедливость. И как было ему с этим жить?
Если не в каждом, то в очень многих таятся несбыточные надежды. И пусть с возрастом накапливаются неосуществленные желания, еще остается время. Но случается иногда: остаток жизни — жалкий отрезок, до срока скрытый во мраке — осветится вдруг горькой догадкой, безжалостным озарением разума. Станет пусто и холодно. Не хочется жить. В такие мгновения отчетливо видишь: исполнения не содержится в будущем. Отчетливо понимаешь, но… Со временем впечатление от губительной вспышки затмевается. Остаются испуг да недоброе предчувствие. Но и они вытесняются иллюзиями, — алкоголи-иллюзии пьянят, усиливают ток жизни. И вот уже некогда оглянуться, задуматься, предчувствовать некогда. Неопределенные надежды манят, зовут, словно дальние знамения или рваные образы недосмотренных снов. Жизнь продолжается. Бег ее нарастает.
Ничего, что одышка, — гурьбой бежать легко. Бежал и Лешаков. Пусть ноги заплетались, он бежал. Плелся в сторонке, в хвосте, не особо задумывался.
Отстающий, он с местом своим примирился. Ни вперед, ни назад не глазел — только под ноги. Но тут словно подножку дали. Запутался, заспотыкался. Упал. Лешаков лежал, точнее не скажешь. Сбили его, уронили, толкнули, или он сам выдохся — поздно виноватых искать. Теперь он лежал, и можно было не торопиться.
Лешаков лежал на диване, курил. Сквозняки передвигали по комнате густо-сизое облако. Оно не проходило в окно и нависало над ним. В старом халате без кушака, инженер лежал на диване. Он бездействовал. Кровь стучала в висках.
Дома, спокойно обдумать, разобраться наедине, разумно внушал сам себе бедолага, уводя себя подальше от греха, от тяжелых автобусов, — они разбрызгивали весеннюю грязь упругими колесами. В тишине мысли ровнее, разве может путное на ум прийти в оглушительном гомоне птиц, в опьяняющем звоне капели. С разумом Лешаков был, казалось, в ладах.
Но дома спокойнее не сделалось инженеру. Мысли в течении не упорядочились. Они путались, цеплялись одна за другую, кружили голову. Апрельское половодье мыслей нечаянно обнаружилось в Лешакове. Но он чуял, под волнами поверхностных неважных, была одна — главная. Она там глубоко и тихо текла. Своей тяжестью возмущала легкие, смятенные, силой напрягала их смятение.
Инженер лежал на диване, курил папиросу за папиросой. Густые облака дыма и отравленные мысли туманили голову. Он не противился. Пусть, думал он про себя, поддаваясь, пусть затянет. Там, на глубине, я ее, главную, и ухвачу.
Кружилась голова. Воскресая, соединялись в памяти, оживали картины минувших лет. Вспыхивало желтым шелковым абажуром детское утро. И почему-то было чисто вымытое окно и за окном голубое облако. Потом сизая школьная форма, фуражка с кокардой, черные передники девочек, сломанная указка учителя географии, — Лешаков учился фехтовать и переломил. Пахло кошками в промерзлом подъезде с мертвым камином, и в темноте были быстрые губы теплым пятном, гулко убегали наверх шаги, и смех, и эхо. Еще, меловая черта старта поперек гаревой дорожки, вопль студенческих глоток, прыгающее солнце в глазах на последних метрах дистанции, обрывки финишной ленты на груди, грубый кубок-награда, речи, оркестр и горький привкус отрыжки во рту — Лешаков чемпион. В институте студент Лешаков успевал, спортом увлекался, в научном обществе состоял. Его уважали.
Читать дальше