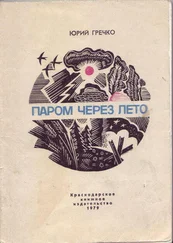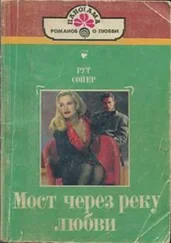Занятая мыслями, с трогательным коварством дожидаясь ухода друзей, она не слишком вникала в разговоры. Но иные крепкие фразы сбивали ее с толку. И она пыталась выудить из тлевшего странного непрерывного спора что-нибудь практическое, ценное, — мало кто нуждается в чужих мнениях и взглядах, но почти все ими пользуются.
Большей частью спорили и переругивались между собой Валечка и Фомин. Лешаков терпеливо молчал. Редко встревал. Не высказывался. Посмеивался, если приятели поддразнивали его. А они задевали Лешакова все чаще, уж очень хотелось им пробиться сквозь изолирующую безучастность.
Инженер отшучивался. Он был рад, что прибежали друзья, сидят подле него, что дом стал местом, куда влечет, притягивает людей, что женщина присутствием своим внесла уют и свет, что он не один. И было грустно инженеру — пришло, случилось слишком поздно, под занавес. Он чувствовал: жизнь его, переломанная, рассеченная, загубленная по недоразумению — она уже была не линия, ощущение плавности отпало. Жизнь стала жесткой черточкой-вектором. И краткость ее Лешакова не пугала.
Холодноватая твердость приоткрывалась в трудном изгибе невеселых губ Лешакова. Он улыбался друзьям, Веронике, сослуживцам, врачу. Но лицо не смеялось. Взгляд оставался непонятен. Казалось, его привлекало что-то за плечом собеседника, и он не мог оторваться, все глядел. Люди замечали, оглядывались, не находили ничего примечательного, пожимали плечами. И кто мог знать, что опять померещилось ему, что он увидел, рассмотрел, что манило его и таилось там, впереди.
* * *
Спор у постели разгорался неровно, то вспыхивал, то угасал. Нервный разговор без направления. Валечка, тот держался за Бога. Марксист религию угрюмо отрицал. Лешаков не верил ни тому, ни другому: очень уж легко они касались тайных, заповедных вещей. Казалось даже, что и говорили они для того, чтобы опять и опять потрогать, еще раз поковырять рану. Не могли удержаться. У многих интеллигентов дух удобно подменяется духовностью — они отмечены ее налетом, как проказой.
Но однажды Лешаков и сам не уследил, как сорвался. Верно, оттого, что спорили о Польше.
— Может оно и к лучшему, дома пересидеть, — неосторожно сказал Валечка. — Там нынче одни беспорядки.
Разговор о поляках принял то отчетливо больное направление, когда остается лишь себя хулить да унижать сладострастно. Лешаков долго крепился, но не стерпел:
— Дались вам поляки. Хоть и правы они у себя там, да не Польша наша родина.
— У тебя нулевая идеологическая валентность, — упрекнул Валечка. — А в эпоху противостояния идей…
— Все идеи — отрава, — трезво отрезал Лешаков.
— А как быть с точкой зрения общечеловеческой? — скромно подковырнул марксист.
— Общечеловеческой — суть бесчеловечной. Общелюдоедская точка зрения, она и есть точка зрения общества на человека.
— Для общества религия, а для души Вера, — попробовал отшутиться артист и кивнул Веронике.
— Если кто рожден в неволе и вырос в неволе, тому неволя свободы милей, — грустно продолжал рассуждать марксист, простодушно недоумевая, отчего волнуется друг, разве не такой же он, как и они, грешные, и какая муха его укусила.
— Нормальный ход, — поддержал артист.
— А что такое нормально? — спросил Лешаков. — Кто это может знать?
— Ну, наверное, — неуверенно начал Фомин, — нормально, это когда больно причинить боль.
— Не марксистская оценка! — не унимался Валечка.
— Правда не забор, ее не выкрасишь в один цвет.
— Воистину! Воистину! — устремился в приоткрытую щель Валечка. — И поскольку невозможно что-либо определенное знать о том, чего не существует, остается лишь уверовать.
— Опять двадцать пять… — вскипел Лешаков и отмахнулся от товарища, как от насекомого. — Живешь под лампочкой, выдаваемой за солнце, и знаешь, что лампочка. И все-таки пытаешься согреться и даже загореть.
— Я тебя уважаю, — с достоинством заметил актер. — Но пережитые страдания не дают привилегий.
Он выразительно замолчал и насупился. Марксист тоже умолк, не принял лешаковской вспышки, затаился и стал похож на обиженного бегемота.
Зачем спорить, корил себя Лешаков. Разве я не такой же, как они, разве не тем дышу? Глупо…
Лешаков подумал, что не хотел, а обидел. Он, может быть, их одних и любил, и не было на свете у него никого ближе этих двоих, а обидел ни с того ни с сего. Из-за Польши, куда его даже не пустили. Но он понимал, что не из-за Польши, и чувствовал: надо прямо сказать, объясниться. Надо, пока трещины не развели их. Но не умел Лешаков выпутываться. И тоже замолчал. Глаза подло опустились, трудно стало глядеть.
Читать дальше