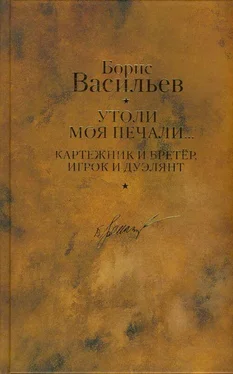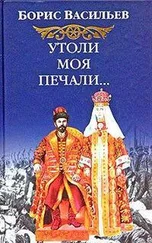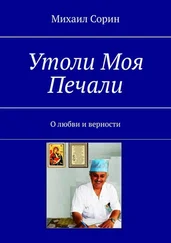Где-то около часу дня Василию Ивановичу удалось пробиться к Царскому павильону, расположенному напротив Петровского дворца, да и то только с помощью демонстрации корреспондентского значка. Подъехать к трибуне, где были определены места для корреспондентов, не удалось, пролетку остановили, и Немирович-Данченко встал в ней, чтобы сойти.
И… задержался, увидев вдалеке Ходынское поле.
Оно было закрыто сплошной стеной народа. Народ стоял и на обочинах Петербургского шоссе, куда только хватал глаз: и в сторону Москвы, и дальше, к селу Всехсвятскому, подковой охватывая Ходынское поле. И душа его словно вдруг съежилась в предчувствии неминуемого страшного удара.
С этим ощущением нарастающей тревоги он и прошел на свою трибуну. Ранее прибывшие коллеги тут же окружили его.
– Знаете, что там, на Ходынке?
– Нет. А что?
– Несколько тысяч раздавлено.
– Ах, господа, господа, – вздохнул Василий Иванович. – Нам по долгу своей профессии по пальцам считать надобно, прежде чем такое говорить.
– Ну, хорошо, но всмотритесь в лица простонародья. На лица внимания не обращали, Василий Иванович? – наседал бородатый экспансивный корреспондент «Московского листка». – Они же все измученные, угнетенные какие-то. Ни одного веселого не встретил! И это – в праздничный день!
– Можно подумать, коллеги, что вы вчера прибыли из Парижа. – Немирович-Данченко опять вздохнул: не дышалось ему что-то, не дышалось. – Я веселых лиц тоже не видел, но измученных, угнетенных… Помилуйте, коллеги, русский человек гораздо глубже такого европейского определения. Он настолько вынослив, настолько терпелив и способен долго и упорно сдерживать все свои чувства, что даже в трагические минуты выглядит равнодушным. А что в этот момент в душе его творится, одному Богу ведомо. Ему куда более свойственна азиатская невозмутимость нежели галльская темпераментная непосредственность, которой грешат многие из нас.
Трибуны были уже почти заполнены публикой. Пестрели нежными пастельными тонами дамских нарядов, ярко выделявшихся на фоне темных фраков, сюртуков и парадных мундиров. Легкий говор колыхался над ними, как ветерок, перед трибунами стояла молчаливая толпа, а позади ее – три оркестра и тысячеголосый хор. На вышку перед павильоном уже поднялся дирижер – директор Московской консерватории Сафонов, – отдававший в рупор последние распоряжения. А еще дальше – опять народ, но уже стоящий спинами к трибунам и павильону. И над ним – густое облако пыли, сквозь которое смутно проглядывали очертания балаганов и эстрад.
– Здравствуйте, Василий Иванович, – тихо сказали сзади.
Немирович-Данченко оглянулся. Перед ним стоял весьма пожилой знакомый фельетонист с непривычно серым, измученным и каким-то потерянным лицом.
– Что с вами, Егор Платонович? Нездоровится?
– Час назад от буфетов вернулся. Они – левее, не видны отсюда. Вот беда-то, вот беда!..
От этих слов, произнесенных просто и искренне, Василия Ивановича обдало морозом по спине.
– Много погибших?
– И до сей поры более полутысячи возле тех буфетов лежат. – Фельетонист достал платок, отер вдруг выступивший на лице пот.
– Полутысячи?..
– Не до счета мне было, не мог я счета вынести. От Москвы донеслось далекое «Ура!». Оно делалось все громче, перекатами приближаясь к Петровскому дворцу. На трибунах все встали и тоже подхватили «Ура!», но царский поезд свернул с шоссе на боковой проезд, ведущий к Петровскому дворцу.
– Прибыл, – вздохнул фельетонист и начал пробираться к своему месту.
Император и императрица появились на балконе второго яруса Царского павильона минут через десять. Тотчас же с новой силой грянуло «Ура!», оркестр заиграл гимн, подхваченный тысячегласным хором и повторенный дважды. Когда гимн закончился, государь как-то не очень уверенно поднял руку, но так ничего и не промолвил, и дирижер Сафонов тут же отдал команду исполнить «Славься».
– Он не будет говорить, – шепнул сзади коллега. – Идемте к Петровскому дворцу.
Корреспонденты осторожно, по одному пробирались к воротам Петровского дворца, где уже выстроились депутации. Тихо переговаривались, переминаясь с ноги на ногу. Минут через пятнадцать появилась открытая коляска, из которой вышел государь.
Василий Иванович не вслушивался в речи депутатов. Он стоял близко, за их спинами, не отрывая глаз от императора. Видел землистый, нездоровый цвет его лица, растерянные, совершенно отсутствующие глаза, неуверенные, словно кукольные жесты. «Не по размеру тебе шапка Мономаха…» – вдруг подумалось ему, и он испуганно оглянулся, точно кто-то мог прочесть его мысли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу