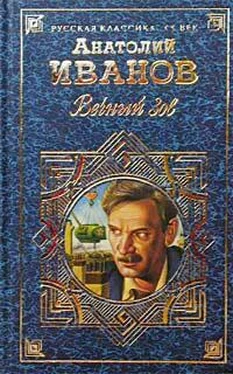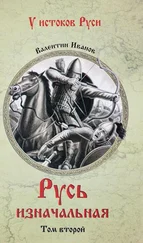— Слышал я от Лахновского — и своих неплохо давил, — едко произнес Валентик.
— Что ж, случалось и такое. По ошибке.
— Легко как! Ошибался, а теперь осознал…
— Не легко, — возразил Алейников. — Тяжелее это, чем твою казнь принять… И понял я наконец-то многое.
— Что ж именно? — все так же насмешливо спросил Валентик.
— Один умный человек мне объяснял когда-то, что добро и зло извечно стоят друг против друга. Это великое противостояние, говорил он. И между светом и тьмой, истиной и несправедливостью, добром и злом идет постоянная борьба — страшная, беспощадная, безжалостная… Не очень как-то тогда и дошли до меня эти слова. Обычная и общая, мол, философия. Но постепенно стал понимать и понял в конце концов — не обычная и не общая… Словно прозрел я и увидел — борьба эта между добром и злом идет постоянно и во всех формах, большей частью скрытых. А с лета сорок первого началась в открытую, врукопашную… Началась война не простая. Не просто очередная война. Не просто одна фашистская Германия воюет с нами. Все мировые силы зла и тьмы решили, что пришел их час, и бросили в бой… обрушили на нас всю свою мощь… И ты, Валентик, один из зловещих солдат этой злобной и мрачной силы… Но рано или поздно всей вашей силе… всем вам придет конец… Придет конец!
Валентик слушал все это, казалось, с интересом, он то почесывал потную грудь под грязной рубахой, то прекращал свое занятие, глядел на Алейникова, привязанного к козлам, исподлобья, холодно и зловеще, но все равно ожидающе.
— Ну, так… — шевельнул он недавно выбритыми, а теперь снова заросшими жестким волосом губами. — Что ж еще ты понял?
— Что еще? — переспросил Алейников. — Вот еще что… Сложное время было у нас после революции. Нелегко было наладить новую жизнь. И такие, как ты, Валентик, все сделали для того, чтобы такие, как я, ошибались…
Алейников, устав от разговора, вздохнул и опять закрыл глаза.
Валентик стоял недвижимо, будто осмысливая последние слова Алейникова. Затем зябко повел плечами, раздраженно поглядел в сторону забора, за которым усиливались голоса, слышались ругань и женский плач. Люди знали, на какое зрелище их сгоняют, кто-то из его подчиненных, конечно, не утерпел, давно проговорился. Валентик представил себе, как женщины хватают детишек и прячутся в темные углы, а их там разыскивают, вытаскивают и гонят на площадь посреди хутора. Представил — и скривился, в груди его стала копиться ярость. Но сам чувствовал — ярость эта прибавляется и прибавляется в груди не столько от криков и плача за забором, сколько от последних слов Алейникова.
— Больше ничего не скажешь, Алейников? — выдавил он сквозь зубы. — Торопись, последние минуты живешь.
И услышал в ответ:
— Ошибки были у меня, Валентик. Были… Но больше я не повторил бы их никогда. Не зря говорят: если б заново на свет народиться, знал бы, как состариться.
Яков Алейников, оказывается, думал не о казни. Он думал о своем…
* * * *
— …На другое утро один из тех бандеровцев, что в Менилине были, явился в Черновицы, прямо к Решетняку. «Садите, говорит, в тюрьму, я больше не могу…» Он и рассказал, как… что было там. После и я ездила в Менилино это, со многими говорила, которых на хуторскую площадь согнали в тот день… — изменившимся, постаревшим голосом закончила Ольга Яковлевна и умолкла.
Потрясенные ее рассказом, все сидели недвижимо, у каждого будто давно остановилась и давно остыла вся кровь в жилах.
— Вот, значит, как погиб Яков Николаевич, — среди мертвого молчания хрипло произнес Кружилин.
И эти слова были самыми страшными будто из всех, которые произнесла здесь дочь Алейникова, они больно ударили каждого, словно рассекли до костей живое мясо. Но все помолчали, лишь Елена, дочь Наташи, мучительно застонала и бросилась вон из комнаты. Наталья Александровна повернула ей вслед голову, а Ирина встала и сказала:
— Не беспокойтесь, я сейчас приведу ее.
И, ступая осторожно и бесшумно, пошла к дверям, так же осторожно, без стука, прикрыла их за собой.
Дмитрий во время всего рассказа сидел сгорбившись, смотрел в пол. Когда дверь за Ириной прикрылась, он медленно, с трудом разогнулся.
— Жутко и представить… Это уже за пределами человеческого.
— Многое, что делается на земле, за пределами, — отозвался Кружилин. — Мы сквозь годы идем, как сквозь плети. Но идем, потому что знаем, куда и во имя чего.
— Сквозь годы, как сквозь плети… — глухо повторил Дмитрий. — Я напишу об этом горькие… и тяжкие, может быть, стихи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу