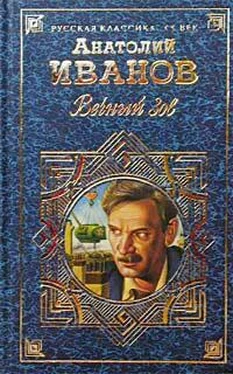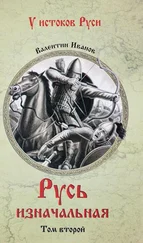— Нет, жизнь — это бездна, — повторил Зубов вчерашнее.
Но он еще не знал, за что старая Акулина Тарасовна попала на каторгу, она не успела ему еще этого рассказать.
* * * *
На обратном пути в Михайловку Зубов был так же молчалив, а Кружилин не тревожил его, понимая, что делать этого нельзя, что в эти минуты продолжается в нем работа, начавшаяся, видимо, давно.
Наконец сам Зубов произнес:
— Вы не поймете, Поликарп Матвеевич, что со мной творилось, когда в пересыльном лагере, уже советском, мне во всем поверили и сказали, что я свободен… К тому времени Финляндия вышла из войны, немцам было не до нас, они просто нас бросили. Охрана, эсэсовцы погрузились на машины и уехали. Так случилось — неожиданно и просто. Финны передали нас советским войскам. С каждым из нас, конечно, разбирались довольно долго потом.
— Я представляю. Мне сын рассказывал…
— Что?
— Он тоже был в плену. Всю войну.
— Вы шутите?
— Почему же? Вы сами говорите, что жизнь бездна.
День стоял веселый, теплый и несильный ветер качал ветви деревьев и кустарников, молодая листва, перекипая под солнцем, шумела древними, как сама земля, звуками.
— Это хорошо, что вам и моему сыну поверили. Но так, к сожалению, не всегда бывает, — произнес Кружилин, подумал о чем-то, горько усмехнулся. — Живет и здравствует, может быть, где-то чекист по фамилии Тищенко. В середине тридцатых меня судьба сводила с ним. И до сих пор, я как вспомню о нем, вздрагиваю. Этот бы вам с моим сыном никогда не поверил… А ведь, в сущности, человеку немного и надо — поверить ему.
— Да, Поликарп Матвеевич! А я рассказал им тоже все честно. Все! И кто я такой, и что за свои… художества был приговорен к высшей мере… Дело мое вел пожилой и усталый какой-то офицер, он спросил меня: «Ну, и зачем вам такая жизнь?» — «Да, говорю, не нужна такая, а другой мне не положено». — «Кем это не положено? — спрашивает офицер. — Кто это чужой жизнью распоряжается?» — «А вот такие, как вы», — отвечаю. «Ну и дурак же ты, братец, — усмехнулся он. — Жизнью своей всегда распоряжается сам человек. Только сам. Истина эта, Зубов, самая простая, проще не бывает. Но, к сожалению, этой-то простейшей истины люди иногда не понимают».
— Простейшей… — повторил, как эхо, Кружилин. — За постижение людьми этой простейшей истины и ведет свою нелегкую и гигантскую работу партия коммунистов.
Зубов бросил взгляд на Кружилина, секунду-другую смотрел на него, медленно отвернулся.
Затем долго наблюдал, как проплывают мимо их ходка все так же искрящиеся солнечной листвой кустарники, слушал глухой перестук колес по мягкой, затравеневшей дороге.
— Мне еще предстоит рассказать матери Семена в подробностях, как мы жили с ним в немецких лагерях. Она это потребовала…
— Значит, ей это необходимо знать. Расскажи.
— Я удивлялся этому мальчишке, Поликарп Матвеевич… Откуда он брал физические и душевные силы?! Я прошел огни и воды и медные трубы, все испытал… В советских тюрьмах и лагерях не мед, конечно, что говорить. Но, боже мой, они мне показались санаториями по сравнению с фашистскими! И там даже я не выдержал было, хотел на проволоку под током броситься. И знаете, что мне Семен однажды сказал? «Слюнтяй ты, — усмехнулся он, — и размазня кислая… Ну и бросайся! А я, коли уж придется умирать, еще хоть одного фашиста как-нибудь изловчусь с собой утащить…»
— Вот об этом и расскажи Анне, — повторил Кружилин.
— Да, обязательно, — кивнул Зубов, задумался, уронил ни с того ни с сего печальную усмешку. — Долго я, дурак, мучился: а что такое родина, какая она может быть для меня? И только там, в фашистских лагерях, я понял это все. И Семен этот, и другие помогли мне в том… Понял я наконец, что такое русская земля и ее люди…
Кружилин помолчал и спросил:
— А где после освобождения-то жил?
— Но разным городам… Работал, трудовая книжка у меня в порядке. И знаете, где работал? Я магазины до войны чистил ловко, по магазинной части меня и потянуло. Начал с грузчика, был потом и продавцом и даже заведовал секцией в одном гастрономе. Я женат, жена у меня добрая, славная, тоже из торговых работников. Сын у меня растет. В общем, все вроде бы хорошо. Но все что-то точило меня, точило… И все яснее я понимал — хочется мне сюда, в Сибирь, съездить, где отец погиб… Только не думайте, что сожалею я о нем. Алейников тогда, на фронте, хлестанул меня: памятью об отце изнываешь, не простишь за него, мол… Нет, Поликарп Матвеевич, не изнывал и тогда уже. А после войны — тем более. Тут что-то другое… Все до конца понять хочется…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу