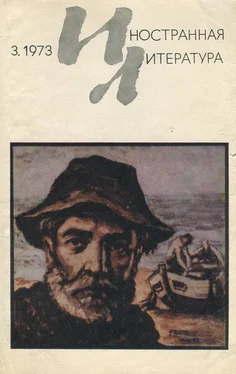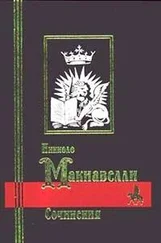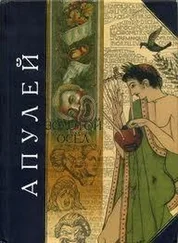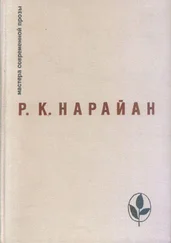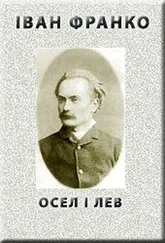Теперь головы клиентов казались ему непослушными и безобразными. Рассказывая свои басни, он думал, что они уже никого не занимают, и замирал с бритвой в руке над сидящим на корточках клиентом: ведь он рассказывал свои сказки главным образом для себя, и если люди смеялись или толковали про услышанное, то, возможно, размышляли при этом, скажем, о трехлемешном плуге, который скоро заменит старую деревянную соху, или потешались просто так при виде старомодного цирюльника, конечно человека умелого и почтенного, но которого давно пора сдать в архив как сентиментальную и нелепую намять о прошлом. Да и сам он перестал уже слушать то, о чем говорил.
Однажды вечером бритва выпала у него из рук, и Мусса не поднял ее. Пригнувшись, он собирался выйти из палатки и вдруг замер на месте, словно пригвожденный к земле лунным светом. Позади него хлопал ушами осел и шипела, посвистывая, карбидная лампа. Мусса вышел из палатки, распрямился и только тогда увидел при свете луны какого-то человека с белой от мыльной пены головой и с полотенцем вокруг шеи, который что-то кричал и размахивал руками. Но и тут Мусса ничего не понял. А когда оба они прогнали прочь осла как нежелательного свидетеля и, войдя в палатку, стали вдвоем стирать мыльную пену с головы клиента и встряхивать карбидную лампу, чтобы она лучше разгорелась, человек продолжал что-то кричать, но Мусса по-прежнему ничего не понимал.
* * *
Сухощавый, степенный и чинный, с львиными усами, в синем, как у механика, комбинезоне, с кожаной дорожной сумкой, он стоял у дверцы вагона, словно собирался открыть ее и спрыгнуть вниз, или только что успел войти, и не сходил с места с тех пор, как поезд тронулся. Два или три раза ему громко предлагали ящик или узел, чтобы он мог присесть, но он, казалось, ничего не слышал. С головокружительной быстротой исчезали столбы, пилоны, деревья, и Муссе чудилось, что их поглощает он сам, могущество внезапно разбуженного в нем человека, обнаруженное им в тот далекий и вместе с тем недавний вечер в палатке, — как будто крики, а потом терпеливые объяснения клиента, которому он хотел брить голову, были гласом божьим. Да, это его могущество приводило в движение и заставляло бежать на всех парах металлическое чудище, это его нервы, а не колеса вагона пели песню его новой торжествующей жизни. «Да, — объяснял ему тот человек, — волосы бреют теперь только на затылке да за ушами. Остальное не трогают. Вот именно, мужчины еще не совсем превратились в женщин. Даже собак стригут в наши дни иначе — до середины хвоста и до колен. Как знать, может быть, и овец станут стричь таким же образом».
За всю дорогу Мусса не произнес ни слова, не сделал ни единого движения. Он думал сосредоточенно — без всякого гнева. Сначала он изменил свою жизнь. Позднее он во всем разберется. «Скажи, — спросил тот человек, — откуда ты взялся? Волосы растут слишком быстро, а твой осел плетется слишком медленно. Чего доброго, тебе скоро не останется ничего другого, как брить кактусы». Мусса сел тогда на осла и поехал рысцой на ближайший рынок. Ослу он ничего не сказал и даже не взглянул на него. Потом он обменял его на синий комбинезон и прочную дорожную сумку, в которую сложил свой цирюльничий инструмент и пузырьки с лосьонами для волос, и отправился на станцию. Когда состав тронулся, он услыхал, как ревет осел. Сомнений не было. Это был именно его осел. Он, верно, сорвался с привязи и бежал следом за Муссой. Но Мусса даже не взглянул на него, не выразил ему своих сожалений. Ведь прошлое так легко воскресить! Поезд остановился, и Мусса сошел на платформу. Перед ним стоял и ревел его осел, болтая обрывком веревки, обмотанной вокруг шеи. Веревку он, видимо, перегрыз. Мусса сделал крюк и ушел со станции. До самого вечера он безмятежно выполнял свою работу, работу современного странствующего цирюльника. Он знал, что животное следует за ним по пятам, но сохранял достоинство и степенность. И все повторялось сызнова. На каждой станции во время отхода или прибытия поезда стоял осел, незыблемый, непреложный и пунктуальный, как железнодорожное расписание, но все более тощий и беспокойный, с обрывком веревки на шее, и ревел, задрав морду и оскалив зубы, и этот рев покрывал даже вой паровозных гудков. Осел появлялся неизвестно откуда и каким образом, быть может, он ехал в вагоне для скота, а быть может, обрел, как и его хозяин, понятие о современном мире, открыл для себя в тот вечер, когда его пинками прогнали прочь от палатки, какой-то новый источник энергии, способный питать его вместо соломы и овса и заставлявший бежать с такой же скоростью, с какой мчался поезд. И неизменно, исторгнув из себя все тот же прерывистый и оглушительный рев, осел тотчас же пускался вслед за своим хозяином.
Читать дальше