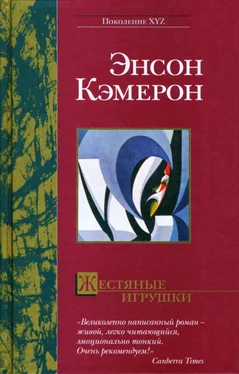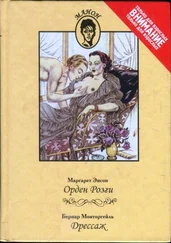И женщине, которая смотрит этот многосерийный, лишенный всякого содержания фильм в ускоренной перемотке, не может быть больше двадцати четырех, говорил мой отец. Уж точно не тридцать.
— Может, мне начать с того, чтобы убрать эту дохлую ворону со двора? — спрашивает у нее отец после того, как потоптался сердито, а потом потоптался смущенно, а потом послонялся от нечего делать по всему ее стандартному щитовому домику с двумя спальнями. Все это время она продолжала сидеть у своего окна, ни словом не обмолвившись насчет того, что ему нужно делать.
— Оставьте ее, — отвечает она. — Не делайте ничего. Нас теперь двое, пленников. Берите себе стул и садитесь.
— Вы-то почему в плену? — спрашивает отец. — Вам-то суд не выносил никакого приговора без определения срока действия. Кто мешает вам выйти?
— Выйти? — удивляется она. — Куда? Кумрегунья — это остров. Остров в море беложопых. Черной женщине нечего там делать, в море беложопых.
Моему отцу нечего возразить про море беложопых и про то, что делать в нем черной женщине. Все, насчет чего он может возразить, — это про степень ее черноты.
— Не такая уж вы черная.
И тут она переводит взгляд со двора на него.
— Я не белая. Значит, черная.
— Угу, — кивает он. — Угу. Это верно.
И отец берет стул, и тогда бессрочное рабство, на которое его осудили, превращается в обыкновенную беседу. Регулярные, два раза в неделю встречи с черной женщиной, сидящей посередине тысячи кружочков от пролитого кофе, ссыльной на черном острове во враждебном море беложопых. И поначалу их разговоры тоже враждебны. Ее — потому, что его жизнь так свободна благодаря его полу и его расе, тогда как ее жизнь никогда не будет свободной из-за того, что его пол сделал с ее полом, а его раса сделала с ее расой.
А его речь враждебна потому, что он пытается втолковать ей, насколько тяжело оно, бремя белого человека. Втолковать ей, что она имеет с этого пособие, а он — одни налоги. Она обладает роскошью смотреть во двор, когда в жизни ее что-то пошло наперекосяк, а ему приходится выбираться из постели в шесть, что бы ни случилось накануне, пусть даже измена самому себе, и продавать восемнадцатиколесный, двенадцатицилиндровый автопоезд какому-нибудь жирному консервному боссу средней руки, который считает своим долгом сообщить ему, что дилер в Нагамби продает такие же машины крупным дельцам в городе с десятипроцентной скидкой. Что ему приходится продавать «Бедфорды», и «Вольво», и «Интернейшнлы», чтобы расплатиться за измену самому себе. Какая уж тут свобода. Глазеть во двор — и то свобода большая, чем продавать по восемь грузовиков за две недели, боясь, что банк решительным образом перекроит твою жизнь, если ты этого не сделаешь. Глазеть во двор — не большая свобода, чем продавать грузовик, говорит она ему. Никакая это не свобода. Я бы не против продать грузовик. Да только откуда он у меня?
Вы не против продать, говорит он, потому, что это все равно не то, что толкать по одному каждую пару дней. Нет, я бы левой ноги не пожалел, только бы сидеть и смотреть на засухи, да на паводки, да на то, как год сменяется годом.
Не засухи, говорит она. Не паводки. Даже не годы. Я не на это смотрю.
Очень скоро она видит, что ему так и не понять до конца, что нет ничего более жалкого, чем глазение в пустой двор, а он очень скоро видит, что ей не понять, что нет бремени тяжелее, чем продавать по восемь грузовиков каждые две недели. Поэтому враждебность и острая необходимость поделиться своими невзгодами и сравнить их с чужими исчезают куда-то из их разговоров. Он начинает захватывать с собой пиво, и они потягивают его за беседой.
Лес Барфус ездит в Джефферсон в кузове миссионерского фургона, в бананово-желтом шезлонге, под гнетом психологических перегрузок. В клинике на Корио-стрит доктор осматривает его мениск, и тот находится в хронически бедственном положении. Психолог осматривает его сморщенный лоб. Обследует его скривившиеся губы — обследует осторожно, ибо пациент готов вот-вот разразиться слезами. Обследует его отсутствующий взгляд. Мягко задает ему три научно выверенных вопроса насчет того, какой бессмысленной стала его жизнь с этой опустошающей болью. Тот шепотом бормочет три полных боли ответа, которым его обучили. Доктор с психологом в унисон соглашаются с тем, что Лес Барфус не в состоянии исполнять хозяйственные обязанности, положенные главе семьи.
Он возвращается в поселок, и выбирается из своего бананово-желтого шезлонга, из-под гнета моральной неполноценности, и превращается в простого, пьющего вусмерть алкаша, занимающегося этим делом в компании таких же забулдыг со всей реки.
Читать дальше