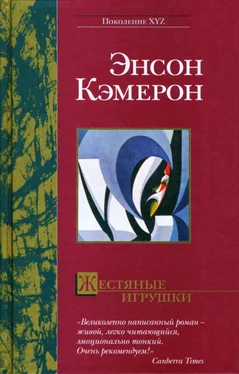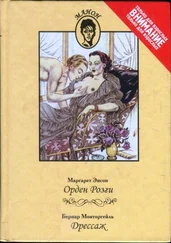— Покажи мне, где она жила.
Мгновение он молча смотрит на меня. Потом опускает плечо, чтобы лямка его сумки для гольфа, а вместе с ней ожидаемые слава и удовольствие от предстоящего дня соскользнули по руке, и клюшки плюхаются на пол у его левого башмака, словно какой-нибудь ржавый металлолом, и он придерживает их ладонями за верх, и стоит так с минуту, глядя на меня, а потом отталкивает их, и деревянные рукоятки с ручной оплеткой стукаются о стену.
— Сейчас, только позвоню, — говорит он.
Он возвращается, отменив финальный турнир и оставив своих партнеров в полном недоумении, и снимает свой свитер от «Голден Беар», и одевает свою подбитую кроличьим мехом куртку «Акабра», в которой обычно ездит на север. «Пошли». — говорит он. И мы садимся в его «Холден», и едем по шоссе на север, к большой реке, пока не кончается асфальт, и он сбрасывает скорость, и подается вперед на сиденье, и крепко держится за руль для равновесия.
В загонах, темно-зеленых под пасмурным зимним небом, телята и овцы жмутся к редким деревьям, пытаясь укрыться от ветра с Большой Расселины, рождающегося не над сушей, не над водой, но над ледниками.
Мост Кумрегунья так и остался однополосным — настил из эвкалиптовых досок поверх эвкалиптовых бревен, с побеленными поручнями по сторонам. Бревна скрипят и лязгают расшатанными стальными креплениями, когда мы проезжаем по нему. Отец жмет на тормоз, скрип и лязг стихают, и мы слышим журчание ручья у корней ив и эвкалиптов. Облетевшие ивы, растущие у ручья, кажутся светлыми на фоне хмурых облаков, и ветви их усеяны электрическими гирляндами водяных капель. Мы сидим и смотрим на струящуюся под нами бурую воду. Посередине ручья то и дело свиваются над каким-то невидимым глазу подводным препятствием небольшие водовороты, исчезающие один за другим за перилами, через которые он перебросил когда-то Леса Барфуса.
— Знаешь, из всех, кого встречаешь в жизни, нет никого такого, с кем не повстречался бы на мосту, — замечает он. — Вот только сбрасывать их с моста, если и помогает, то совсем ненадолго. Да что там, совсем не помогает. — Впрочем, глядя на воду, он улыбается. Мы с ним бывали на этом мосту раз пять или шесть, и каждый раз сидели вот так же. Он всегда улыбается, глядя поверх этих перил. Поэтому его совет насчет неэффективности сбрасывания людей с моста — на деле обман, один из тех привлекательных обманов, которые мир заставляет тебя произносить время от времени. Ему нравится эта его история на мосту.
Посидев так несколько минут, он убирает ногу с тормоза, и мы со скрипом и лязгом едем дальше, словно по рейкам какого-то огромного ксилофона.
Когда мы подъезжаем к повороту на Кумрегунью, он снова останавливает машину, перегибается через меня и тычет пальцем в направлении лабиринта эвкалиптовых стволов, подпирающих полушарие зеленой листвы, в тень которой ныряет дорога.
— Вон, — говорит он мне. Потом, включив левую мигалку, хотя на дороге нет ни одной машины, мы сворачиваем налево, к миссии Кумрегунья.
Дорога обсажена эвкалиптами и акациями в желтом цвету. Тянется она километра два. Старательно просчитанное расстояние, как мне кажется, чтобы охранять прошлое от настоящего. Чтобы не дать обитателям этого прошлого возможности каждый день пересекаться с механизмом Содружества в действии, что было бы болезненным для обеих сторон. Как показала жизнь, недостаточное расстояние. Для Меня. Для всех нас.
Дорога упирается в кучку домиков на фоне темной стены леса. Домики совершенно одинаковые, из неокрашенных армоцементных плит с проржавевшими и кое-где покосившимися крышами из гофрированной жести, половина окон зияет выбитыми стеклами, а цементных стен — иззубренными черными дырками, откуда клочьями лезет утеплитель. Двери косо висят на петлях, а некоторые просто лежат на земле перед домами. Земля между домами вытоптана и усеяна ржавыми велосипедными рамами, остовами старых автомобилей, шинами и железными бочками. Там и тут желтеет на фоне этого серого, неокрашенного уныния цветущая акация.
Свора тощих, плешивых собак с лаем несется от домов нам навстречу и налетает на машину с обеих сторон, и каждому из кобелей не терпится первым окатить наши вращающиеся колеса своей мочой, претендуя на единоличное обладание ими. Собаки в своре рыжие, и черные, и пегие, но все одинаково тощие, и хромые, и трусливые. Отец разгоняет свору криком «Пшливонматьвашу!», и псы разбегаются, прижав уши и подобрав хвосты.
Читать дальше