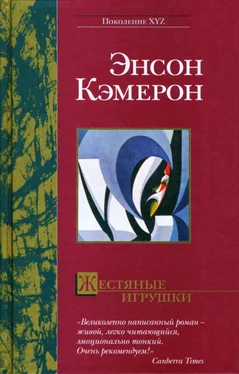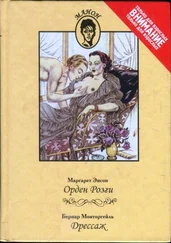А там, под пологом джунглей, где живут самые черные люди на земле, основной индустрией которых остаются приманивающие туристов обломки бомбардировщиков «Бетти» адмирала Ямамото, самые черные люди слушают эти обещания. И на изборожденных морщинами лицах стариков, которые еще помнят старые, военные времена, играет улыбка, и они тычут скептиков своими тростями и хихикают в заросшее зеленой листвой подбрюшье небес, с которых сыплются на них эти обещания.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Сны в обратной перемотке
Как так выходит, что хлопок в ночи всегда будит тебя в ту секунду сна, когда в нем что-то грохочет? Когда он нужен по ходу действия? Точно в момент убийства? Точно в момент, когда, например, немигающие черные зрачки двуствольного дробовика смотрят из опущенного пассажирского окна «Студебекера», проезжающего мимо твоей матери, и твой мозг тщетно пытается найти слова, которых нет ни в одном языке, но которые остановили бы оба взведенных курка? Как так выходит, что реальный хлопок, прозвучавший в предрассветной тишине, спускает эти вымышленные курки? Это первое, о чем я думаю, после того как ужас немного отпускает мой проснувшийся мозг.
Возможно, у разума имеется этакое собрание кошмаров, которые хранятся в ожидании подходящих утренних шумов. Кошмаров, смотанных, как кинопленка, и хранящихся на какой-то полке в твоем сознании. И когда в три утра под твоим окном раздается громкий выхлоп какого-то раздолбанного грузовика, один из этих жутких фильмов падает с этой полки и мгновенно, пока ты просыпаешься, вцепившись руками в простыни и вжимаясь всем сведенным от напряжения телом в матрас, разматывается от конца к началу. А потом уже прокручивает тебе все это. Этот сон. Прокручивает с тем, чтобы ты ломал потом себе голову, как этот приснившийся «Студебекер» подъезжает к твоей приснившейся матери именно с такой скоростью, чтобы пары непрогоревшего бензина в реальной выхлопной трубе реального раздолбанного грузовика взорвались строго в то мгновение, когда в твоем сне раздается выстрел из дробовика.
А может, на самом деле это тебе не снится, а ты вспоминаешь весь сон целиком? От конца к началу? В одно короткое мгновение? Он просто упал с полки и раскатывается в обратном направлении от момента смертельной развязки, совпавшей с хлопком в ночи?
В последнее время, правда, для меня это не выхлопы грузовика, а грохот гидравлического сваебойного агрегата, забивающего железобетонные сваи для будущих жилых домов глубоко в песок Порт-Мельбурна.
Где-то там, на берегу, шланги гидросистемы дергаются, и полутонная металлическая чушка молота ползет вверх по направляющей, пока не срабатывает датчик, высвобождающий ее, и она летит вниз, на оголовок бетонной сваи, и тогда в предрассветном Порт-Мельбурне слышен ее первый удар. Первый из тысячи, который донесется до тебя с юга, если ты стоишь на открытом месте, или с севера, отразившись от стены соседнего дома, если ты в помещении, или с востока, или с запада — в зависимости от того, в каком месте пригородного лабиринта ты живешь. Удар, зовущий в Порт-Мельбурн диваны «Негахайд», и кофеварки «Гадцжа», и кабриолеты БМВ, и сорта пива со всего мира, и искусство Гейдельбергской школы, и вообще всю лощеную, в дорогих ярлыках цивилизацию. Зовущий их туда, где прежде не было ничего, кроме недорогих домов для рабочих и синих воротничков, и кабаков, и множества немытых детей.
И кошмар, сброшенный с полки этим сваебойным агрегатом, всегда один и тот же. Моя мать, черная женщина в белом хлопчатобумажном платье, стоит, небрежно привалившись к школьной ограде в Джефферсоне. Пришла забрать меня после уроков. Она стоит, облокотившись на верхний брус, а белое хлопчатобумажное платье на ее ягодицах, прижавшихся к проволочной сетке, разбилось на квадратики и выпучилось наподобие равиоли. Ее лицо выражает решительную, наигранную невозмутимость. Она смотрит вдоль улицы в одну сторону с каким-то полуотстраненным интересом, а потом смотрит вдоль улицы в другую сторону на какое-то другое несуществующее событие или сооружение, старательно не обращая внимания на перешептывание поджидающих своих чад рядом с ней белых матерей.
Мать, которую я вылепил на протяжении многих лет слой за слоем, ложь за ложью, в достаточно красивую скульптуру, которой можно похвалиться, но которую можно и разбить в мрачные минуты.
И вот, когда звенит звонок с последнего урока и все известное мне общество, спущенное с поводка, несется из школы на Балаклава-роуд к своим перешептывающимся матерям, она стоит там сама по себе, прислонившись спиной к проволочной сетке, глядя куда-то вдоль улицы на несуществующее событие. Вот так она ждет. Танцующее изваяние.
Читать дальше