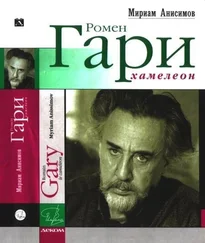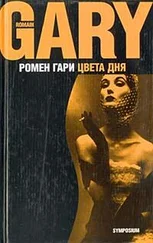Она ненадолго умолкала. Я почти видел ее силуэт, ореол седых волос, красную точку сигареты. Я воображал ее рядом с собой всей силой своей любви и верности, на которую был способен.
— Знаешь, мне надо тебе кое в чем признаться. Я не сказала тебе правду.
— Правду о чем?
— На самом деле я не была великой трагической актрисой. Все было не совсем так. В театре я играла, это правда. Но не более того.
— Знаю, — говорил я ей мягко. — Ты будешь великой актрисой, обещаю. Твои произведения будут переведены на все языки мира.
— Но ты не работаешь, — возражала она грустно. — Как, по-твоему, это случится, если ты ничего не делаешь?
И я взялся за работу. Трудно было в самый разгар войны на палубе корабля или в крохотной каюте, которую я делил с двумя товарищами, засесть за какое-нибудь длинное произведение, так что я решил написать четыре-пять рассказов, каждый из которых восславил бы мужество людей в их борьбе против несправедливости и притеснений. Когда рассказы будут готовы, я введу их в состав более обширного повествования, своего рода фрески, живописующей Сопротивление и наш отказ от покорности, вкладывая свои истории в уста разных персонажей, согласно давней традиции плутовских романов. Таким образом, если я погибну до того, как закончу всю книгу, то по крайней мере оставлю после себя несколько рассказов, все из моей жизни, и мать увидит, что я, как и она, старался изо всех сил. Вот так и был написан первый рассказ из «Европейского воспитания» — на борту корабля, уносившего нас навстречу боям в африканском небе. Я немедленно прочитал его матери, на палубе, при первых проблесках зари. Казалось, она была довольна.
— Толстой! — заявила он попросту. — Горький!
А потом, из вежливости к моей стране, добавила:
— Проспер Мериме!
Этими ночами она говорила со мной гораздо непринужденнее и доверительнее, чем прежде. Быть может, решила, что я уже не ребенок. Быть может, просто потому, что море и небо способствовали откровениям и ничто вокруг нас, казалось, не оставляло следа, только белела струя за кормой, такая эфемерная в тишине. Может, также потому, что я уезжал сражаться за нее и она хотела дать новую силу моей руке, на которую ей еще не довелось опереться. Склонившись к волнам, я черпал из прошлого полными пригоршнями: обрывки фраз из разговоров, слышанные тысячу раз слова, позы и жесты, запечатлевшиеся в моей памяти, главные темы, пронизавшие ее жизнь подобно световым нитям, которые она сама выткала и за которые не переставала цепляться.
— Франция — самое прекрасное, что есть в мире, — говорила она со своей обычной наивной улыбкой. — Потому-то я и хотела, чтобы ты стал французом.
— Ну вот, дело сделано, верно?
Она умолкала. Потом слегка улыбалась.
— Тебе придется много воевать.
— Я был ранен в ногу, — напоминал я ей. — Вот, можешь потрогать.
Я выставлял ногу с тем маленьким кусочком свинца в бедре. Я так и не дал его удалить. Она очень им дорожила.
— Все-таки поберегись.
— Поберегусь.
Часто во время заданий, предшествовавших высадке, когда осколки и взрывные волны бились о корпус самолета с грохотом прибоя, я вспоминал материнское «поберегись!» и не мог сдержать улыбки.
— Куда ты подевал свой юридический лиценциат?
— Ты хочешь сказать — диплом?
— Да. Ты его не потерял?
— Нет. Лежит где-то в чемодане.
Уж я-то знал, что у нее на уме. Море вокруг нас спало, и корабль следовал за его вздохами. Слышался глухой перестук машин. Откровенно признаюсь, я немного побаивался вступления моей матери в дипломатический мир, куда пресловутый юридический диплом должен был, как она полагала, однажды открыть мне двери. Уже десять лет она тщательно полировала наше старинное императорское серебро в предвкушении того дня, когда мне придется «принимать». Я тогда не был знаком ни с послами, ни, того меньше, с их супругами, поэтому воображал их всех как само воплощение такта, светских правил, сдержанности и умения держать себя. С тех пор, учитывая мой пятнадцатилетний опыт, я приобрел более человечный взгляд на вещи. Но в те времена у меня о дипломатической карьере было весьма восторженное представление. Так что я не без опасений задавался вопросом, а не будет ли матушка несколько стеснять меня при исполнении моих обязанностей. Боже сохрани, я никогда не делился с ней вслух своими сомнениями, но она умела читать и мое молчание.
— Не беспокойся, — уверяла она меня. — Я умею принимать.
— Послушай, мама, речь не об этом…
Читать дальше