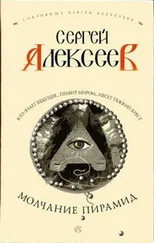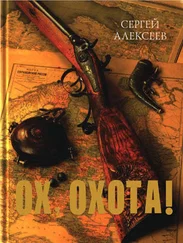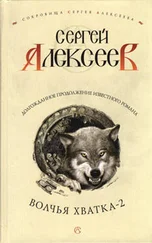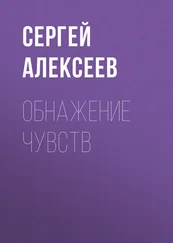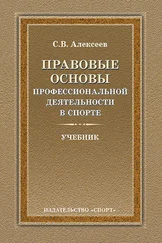— Вот поднимусь выше — может, увижу! — отзывается сынок. — Небо-то кругом мягонькое, а говорили — твердь!
Севастьян из себя выходит, по крыше бегает, руками машет — того и гляди, взлетит.
— Садись, окаянный! Сей же час садись, крылья-то мои!
Покружил самохинский большак над холмом да и сел на землю. Купец распорядился приказчику, чтобы тот шел созывать весь народ с округи, будто бы на гулянку по случаю открытия пильных мельниц, чтобы все шли, от мала до велика, от барина до последней бабенки, а он, Севастьян, угощения‑то не пожалеет, пива да вина бочками выкатит, мяса с рыбой да хлеба горой навалит. Приказчик хозяйскую волю выполнил в точности, и повалил к холму народ со всех концов, столы накрыли такие, которых во всей губернии не видывали. Все меленками любуются, купца на все лады расхваливают, а Севастьян-то ходит среди народа, смеется:
— А я и летать умею! У меня и крылья есть!
Взошел он на мельницу, позвал с собой мастера, чтобы крылья надеть помог. Народ внизу стоит, рты разинул — ждет забавы: шепоток прошел, будто купец сейчас с крыши-то деньги станет в толпу бросать. Самоха же как глянул вниз, так и говорит:
— Ой, батюшко, неладное дело ты затеял, над народом-то летать.
— Самое ладное, братец! — отвечает купец. — Пускай народ дивится!
— Я крылья-то тебе не на диво сделал — от нужды, — не соглашается мастер. — От нужды на них и летать надобно!
— Моя нужда — диво и есть! — смеется Севастьян. — Тяжко мне жить без него!
Нацепил Самоха ему крылья, складочки расправил — разбежался Севастьян по крыше да и оттолкнулся от нее…
И полетел было уж над народом-то, воспарил было, да толпа внизу от удивленья и страха разом-то как вдохнула воздуха да и потянула купца к себе. Вместо того чтобы выше меленки взлететь, его к земле бросило, поскольку воздуха-то, ветра под крыльями не стало, весь в раскрытые рты да глотки втянулся. Едва успел народ расступиться, чтобы дать место, куда Севастьяну упасть. Упал Севастьян и ушибся насмерть.
Что тут поднялось! Поп кричит — дьявол Самоха! Наустил купца летать, чтобы погубить его и деньги взять. Чиновники всякие в един голос с ним заорали, замахали руками, но к мертвому-то крылатому купцу подойти не смеют — что, если он и сам — сатана? Взялись Самоху ловить. Поймали, руки ему вывернули, денежки, серебряные и золотые, что Севастьян на вольную дал, повытрясли. Большак-то его кинулся было отца выручать, но видит — не справиться ему с толпой. Подбежал он тогда к купцу, отвязал крыла, топоришко прихватил и на мельницу полез. Никто его и не заметил: все мастера Самоху пытали, денежки его пересчитывали.
А самохинский большак тем временем взлетел над толпою, покружил, помахал топором сверху — будто и не видят его: все на коленах по траве ползают, мастеровы золотые рублики ищут. Только отроки и заметили, засвистали большаку и побежали вослед с задранными головами.
Самоху потом в монастырскую тюрьму на цепь посадили и, чтоб воли никогда не видел, махонькое оконце камнем заложили и глиной замазали. От темноты-то он будто ослеп совсем, а от тишины оглох. Но меленки его, на холмах поставленные, еще долго крыльями махали да хлебушек мололи: ветер не ветер — все одно машут. Если проезжать в тех местах по дороге, издалека, из-за лесов видать, будто стоит кто-то и рукой тебя подзывает, подзывает. А как минуешь меленки да снова за леса закатишься, будто опять вослед тебе машут… Потом и мельницы поизносились, поветшали крылья и перестали махать. Стоят теперь они, как кресты на придорожных могилах.
Но с тех пор над мельницами Самохиными, да и в других местах, стало слышно, будто в небе летает кто-то. Будто шуршат в воздухе шелковые крылья, постанывают от ветра, а глянешь — никого не видать. Иногда еще звон топора слышится, особенный такой звон, будто колокольный. В народе говорят, что это вольный Самохин большак летает, отца своего ищет и гремит над землей топором…
Отлетело детство, и осталась память да материны сказки, под которые было так мучительно и сладко засыпать, и видеть потом их во снах, и заново переживать, и просыпаться от жуткого и восторженного ощущения полета, искать чуткую материну руку, цепляться за нее, чтобы остановить щемящее под ложечкой чувство падения и полета.
— Мама, я во сне летал! Страшно!
— Это ты растешь, сынок, спи. Это у тебя косточки растягиваются и делаются легонькие, как у птичек.
Прошло детство, вырос, кости разошлись в ширину, и уж некуда больше расти, но во сне я летаю до сих пор. То вдруг впереди оказывается бездонная пропасть, в которую падаю и просыпаюсь, а то поднимаюсь вверх с розного места, и земля уходит под ногами, и лес уходит, и холмы; становится страшно, но не от чувства полета — оттого, что внизу оказывается безжизненная, желтая пустыня, сухой песок, трясущийся, словно залежалая мука в сите.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу