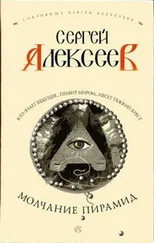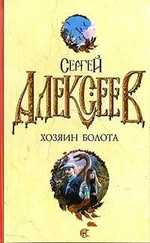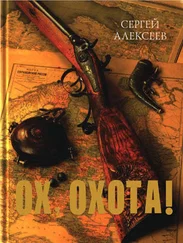Настасья глянула на мужа и с хрястом вырвала оконную подушку.
— Они ж, поди, как змеи, яйцами размножаются, — встряла она в мужской разговор. — А такая большая скотина вон сколь яиц может нанести! Взять да разделить поровну.
— А насиживать тебя посадить? — недобро отозвался Видякин. Он не любил, когда жена лезет с советами в вопросы, касающиеся политики. Настасья умолкла и покраснела. — Это тебе не инкубаторские цыплята, — добавил Видякин. — Это динозавры.
— Эх, жалко, — вздохнул старик и побрел домой.
Над Алейкой было пасмурное, тихое небо. Осень готовилась залить землю дождями, засыпать листвой и заполнить леса грибами. Время наступало хорошее; во все годы Никита Иваныч ждал осень, чтобы натосковаться, нагруститься до какого-то приятного, обволакивающего жжения в душе. В иную осень, не зная отчего, он даже тихонько, втайне от всех, плакал, как плачут от хорошей русской песни.
Пожалуй, это был первый год, когда он ощущал полное безразличие: осень на дворе, зима ли — все равно… Но Никита Иваныч отворил свою калитку и хотел уже ступить во двор, но в этот момент услышал густой и плотный шорох крыльев в небе. Ему показалось, будто черная тень пала на землю.
Со стороны леса медленно выплыла огромная стая черного воронья. Птицы летели молча, что было непривычно и неестественно. Они сделали над Алейкой большой круг и потянули в сторону болота.
На следующий день с утра Никита Иваныч надел дождевик, опоясался патронташем и, прихватив ружье, нацелился идти.
— Ты куда? — удивилась Катерина. — Не завтракамши да с постели только?
— На болото гляну, — бросил старик. — Прогуляюсь немного. Может, утешку какую добуду. А то совсем меня в нахлебники записали.
— Не пушшу, — отрезала старуха. — С тобой пойду. Не то свалишься где.
Никита Иваныч противиться не стал, отвязал кобеля, и они все тронулись к болоту. День опять был тихий, пасмурный. Он шагал неторопливо, иногда останавливаясь то у места, где лежала куча бревен и где они разругались с Ириной, то у разбитой в грозу березы или в других местах, как-то связанных с его жизнью. И мысли были тоже неторопливые, вольные. Думалось о непутевой дочери, о муравьях, погибших в березовом соке, о болоте, о журавлях, и думы эти смешивались в один тугой ком, переплетались, словно кусок дерна, и совершенно не волновали. В другой раз он, наверное бы, уже брызгал искрами от одного воспоминания, а тут хоть бы что. Рябчики с треском взлетели с дороги и расселись по деревьям будто мишени — старик даже ружья не снял. Кобель кого-то на дерево загнал и облаял. Следовало бы подойти к нему, похвалить, чтобы не испортить охотничьего старания, но Никита Иваныч будто и не слышал.
Старуха молчала-молчала всю дорогу и все-таки не выдержала. Опять стала упрекать: про Ирину забыл совсем, хоть бы спросил, пишет ли, нет. И вообще, дескать, можно ли так долго сердиться на родную дочь. Пора бы понять ее, войти в положение. Ей-то, поди, труднее сейчас… Никита Иваныч соглашался про себя. Да, конечно, надо понять Ирину да простить ей грех. Подумаешь, родит без мужика! Мало ли так рожают, и ничего. Живут, детей растят, а дети потом людьми становятся и ничем от других не отличаются. Это раньше в деревне такую бы бабу вместе с дитем затравили. А сейчас не то время. Конечно, надо простить Ирину. Пусть рожает внука…
И еще Никита Иваныч думал, что вообще в природе что-то нарушилось. Будто она, как и старик, переболела лихорадкой и теперь все в ней по-иному. Вот и журавли стали раньше на крыло подниматься, людей к себе подпускают, не боятся. И женщины без мужей хотят рожать. Куда же это все дальше-то укатится?
Не заметил он, как пришел к болоту. Спохватился, а перед ним уже трактора стоят: в одной шеренге матерые красавцы-американцы, в другой — отечественные трудяги. Выстроились друг перед другом и застыли. Вокруг ни души. Только чернеют холмы торфа и блестит рыжая вода в траншеях. Никита Иваныч хотел подойти ближе, но тут откуда-то вывернулся Пухов с ружьем на перевес.
— Сто-ой! — закричал он, прыгая на протезе. — Не смей трогать!
— Чего? — спросил старик, продолжая наступать.
— Стой, говорю! — еще раз предупредил Пухов. — Не то стрелю!
— Ты что, сдурел? — рассмеялся Никита Иваныч. — Это же я, Аникеев Никита.
— Все равно стой, — упрямо сказал сторож. — Мне велено никого не подпускать. Стрелю же!
Никита Иваныч наступал. Пухов попятился, но прочно увяз протезом в болоте.
— Я те стрелю, — спокойно проронила Катерина и, обогнав мужа, вплотную приблизилась к сторожу. Тот спрятал ружье за спину.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу