Но именно в эти вот мгновенья, нет, в самый напряженный миг, когда дыхание в груди от страха и ужасного ожидания конца света должно было остановиться, вдруг за истаявшей льдинкой, за той остатней, едва пульсирующей капелькой света возникало видение гор, остановившихся дерев, означался намек на белое облако, открывался лоскут совсем уж дальнего неба, на котором недоступно светилась потусторонняя звезда. Кусочек небесной голубизны был столь нежен и прозрачен, что нельзя было не только кашлянуть — дохнугь во всю глубь и то боязно было, чтобы не прорвался, не улетучился, не исчез свет далекого неба.
И мне открылось внезапно: «тот свет!» Там живет Сам Бог, и что Ему захочется, то Он и сделает со всеми нами. Но раз по бабушкиным молитвам выходило, что творит Он дела лишь великие, добрые, то, мнилось мне, оттуда, с «того света», из-за горных вершин распадка Караульной речки, мягко ступая по облаку, спустится Он, погладит меня по голове и скажет: «Пойдем со Мной, дитя Мое».
Зачем? Куда мы пойдем и как вознесемся на небо — я этого не ведал, но знал, что обязательно пойду за Ним со счастьем и страхом в сердце и узнаю, увижу что-то совершенно никому недоступное, испытаю доселе никем и никогда не испытанное счастье.
Никогда-никогда более я не был так близок к небесам, к Богу, как тогда, в те минуты соприкосновения двух светлых половинок дня, и никакая тайна не вселяла в меня столь устойчивого успокоения.
На исходе той памятной ночи я отправился домой, залез на сеновал и уснул, уверенный в том, что горы, земля, все-все на месте, что наступит день и веки вечные ему быть, потому что там, за горами, в распадке речки Караульной, никогда не гаснет свет будущего дня, а за высокой горою, в Царствии Небесном, есть Тот, кто хранит не только лад и мир на земле, но и думает о будущем рабов Своих, оберегает их покой и, значит, мой покой, мою жизнь от зла, скверны, геенны огненной…
Проспал я до высокого солнца, жарко нагревшего крышу надо мной и прошлогоднее ломкое сено подо мной. Дверца на сеновал была открыта — дед проверял, дома ли я. В квадрате солнечного, почти бездонного провала плясали мошки, кружилась и билась, билась в ярком свету, играя сама с собой, нарядная бабочка, полоской тянуло щекочущую пыль от растревоженного сена.
— Учи его, учи, потач! Вон он сулится всю деревню вырезать! Одново, говорит, дедушку оставлю…
— И будем жить припеваючи!
Слышно было, как бабушка громко плюнула, ногой топнула и ушла со двора, причитая:
— Да тошно мне, тошнехонько! Да ковды Господь приберет меня, несчастну-у…
— Бу-бу-бу… Ишшо всех переживешь! — дед вдогонку ей. — Самово сатану в калач загнешь и на лопате в горячу печь посадишь.
Послышался скрип лестницы. На сеновал поднялся взъерошенный, воинственно-возбужденный дед и сказал:
— А ну, давай спускайся! Поедем на Усть-Ману. Избушка наша там покуль жива, откроем, будем дрова пилить, картошки варить, ты станешь рыбу удить, песняка драть. Пушшай оне тут! И Митроха, мать бы ево так, и Ганя Болтухин со своим холхозом, и Танька с собраньям, и наша генеральша, и все сдохнут.
— Ой деда! — преданно глядя на него, сказал я. — Вот как я тебя люблю, даже не знаю. А когда ты помрешь, как я буду?
Дед смущенно закряхтел, запокашливал, веревку начал сматывать, вилы и грабли подбирать, сено к стене подпинывать.
— Да чё про это говорить? Все помрем. И я. Потом и ты. Думать про это не надо. И торопиться не будем, так?
Он поднял меня на руки, прижал к себе, пощекотал бородой и на руках спустил по лестнице вниз. Как в самую малую пору моей жизни, я приник к деду, притих на его груди, и сладко-сладко подтачивало мое нутро, заливало его такой волной тепла, что снова мне захотелось плакать, но я лишь крепче сжал руками шею деда, плотнее приник к нему и не отпускался до тех пор, пока не донес он меня до телеги, не опустил на клок сена. Разворотив Ястреба, дед уже за воротами сказал, кивая головой на холщовый мешок:
— Пожуй хлебушка. Ести будем уж на Усть-Мане, — и пошевелил вожжи: — Н-но, Ястреб, н-но-о, конишко наш, шевели ногам, пока тя на живодерню не свели…
Такого возбужденного, многословного дедушку я никогда еще не знал и сперва обрадовался, петь начал, но после отчего-то мне тревожно стало; какое-то предчувствие коснулось меня, и предчувствие, как всегда, не обмануло — скоро дедушка надолго занедужил и больше уж не поднялся. На Усть-Ману, на заимку, оказалось, мы ездили с ним в последний раз. Избушку на заимке сплавщики нечаянно своротили трактором с бычка, и она, развороченная, с рыжим кирпичом и кишкой растянутыми пестрыми тряпками, лежала вдоль горы и под горою до зимы. Весной большой водою ее и вовсе разнесло, растащило, только долго еще краснел, обмытый водою, кирпич на берегу, но и он скоро погас.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
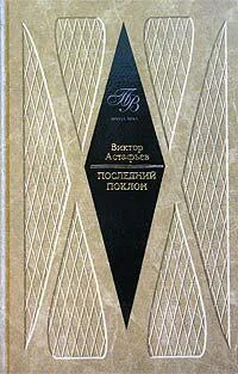

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

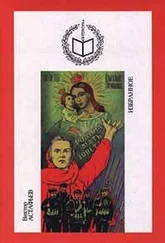



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



