От Енисея поднимался слабый свет, с левой его стороны тревожное пламя известковых печей беззвучными сполохами пошевеливало небо. Из-за огородов и бань, с дальних хребтов накатывала прохлада. Ногам, побитым за день, телу, разгоряченному и потному, сделалось знобко. Я поджал ноги, нащупал ими иссохшую за день, жесткую травку и, растопырив пальцы, влез ими в кучерявины, будто в мягкую овчину, пятки вжал под бревно — прокаленная пыль ласкала кожу ног птичьим теплом.
Мелкая скотина загнана во дворы. Коров подоили и отпустили в ночное, чтоб овод не одолевал. За поскотиной слышалось грубое бряканье ботал и тилилюканье колокольцев. За заплотом нашего двора, под навесом зашевелились куры, одна упала с насеста, пробовала закудахтать, но петух угрюмо на нее прорычал, и сонная курица, не решаясь взлететь, присела на землю. Не загнал я куриц в стайку, пробегал, завтра гляди да гляди — в огород заберутся, яйца в жалице снесут. Да подумаешь, хозяйство какое! Надо его бабушке — паси! А нам с дедом все пропадом пропади, мы сбросили оковы.
В щели заплота, из подворотни, из-под крыши и от самого дома томко грело — дерево отдавало тепло, накопленное за день. Тепло перебарывало еще слабо веющую прохладу, размягчало под рубахой тело, погружало все живое в разморенную дремотность. Начала видеться разрыв-трава — смесь крапивы, орляка, конопли и еще чего-то. На бурьяне том немыслимом не то пестрые цветы, не то живые щеглы сидят, клювы открывают, в клювах зернышки катаются… Глядь, прямо по траве дядя Ваня босиком идет-бредет, ломаной косой машет, «шорт!» — говорит. Как можно в такую ночь черта поминать! Только я так подумал, глядь — курица литовкой косит!.. А там, дальше, вроде бы уж и черти настоящие в лапту играют, и черти-то все как будто обликом знакомые…
Но только я начал пристальней вглядываться, как все во мне встрепенулось, видения отлетели, весь я подался в темноту вечера, чуть не уронил деда с бревна. Губы мои шевелились, ровно бы хватали что-то горячее, сладкое, на самом деле повторяли слова песни-игры, заполнившей разом и землю, и небо, и первую, оттого и густую такую, смоль вечера. Возле дома Ефима Вершкова, на травяной ли поляне в бобровском переулке, где мы еще так недавно сражались в лапту, собрались девчонки, вошедшие в тот возраст, когда пора помогать по хозяйству, но зато вечером можно им бегать сколь угодно, не подвергаясь строгому родительскому досмотру.
— Гори, гори ясно, чтобы не погасло! — заливались во тьме голоса, и чем далее уходил день, чем глубже становился вечер, чем плотнее подступала темная ночь, тем они громче звенели, захлебываясь теплым духом лета, плывущей из леса смесью запахов: хвои, цветов, трав, папоротников и какого-то пьянящего дурмана, ощутимо реющего над селом.
Движение зарева в небе от известковых печей, скольжение теней леса и гор в Енисее, беспроглядность лугов за поскотиной и в особенности темень, обступившая со всех сторон село, дома, пугали: девчонкам чудилось кругом волшебство, в груди от этого теснился страх. Но вот хиус с реки и распадков раздул пламя в печах, выбил из них искры, шевельнул тени в реке, взволновал траву на лугах, и задвигалась трава, чуть засеребрилась первой росою и тут же обмерла, — сладкую боязнь красоты ощутили девчонки и сами в себе почуяли легкость и отблеск этой красоты, прикрытой тайностью ночи, и каждая девушка думала, что это ощущение несет в пугливо вздрагивающем сердце только она, что тайна эта ее, но удержать в себе ту тайну нет сил, и легкую от предчувствия счастья, может, и беды, подхватило, понесло в ту бездонную пустоту, в которой что-то серебрилось, что-то дышало, что-то веяло, парило, и то совсем близко, у ног, на земле, то в звездной выси, в недоступном небе, пугая и маня, мерещилось что-то жуткое и отравно-сладкое, а еще выше, в непостижимой запредельности, не сердцем одним, всем телом предчувствовалось что-то и вовсе губительное, чему непременно надо было сопротивляться, но не было сил владеть собою.
Девчонок крутило, несло куда-то, и раскинутые руки казались им крыльями, земля под ногами — горячим облаком, звезда в небе — манящим огоньком, кровь давила голову, волнами билась в ней и, перекипелая, скатывалась в грудь, кололась во всем теле, рвалась из жил и рвала жилы. Напуганные, ошалелые, озаренные манящим светом, сжатые зыбкой тьмою девчонки бегали и то пели, то, словно в больном бреду, звали: «Мамочка! Мама! Мамочка! Мама!», будто погружались в смертную глыбь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
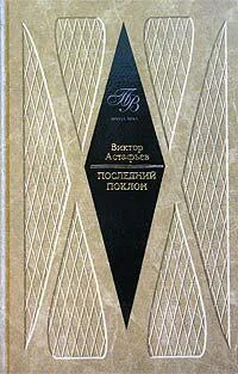

![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)

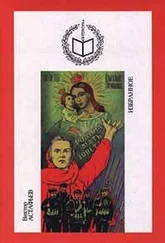



![Сергей Козлов - Последний Карфаген [Повесть. Рассказы. Дневники]](/books/409694/sergej-kozlov-poslednij-karfagen-povest-rasskaz-thumb.webp)



