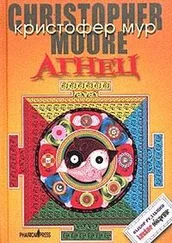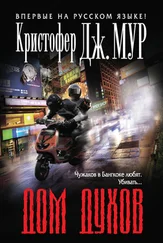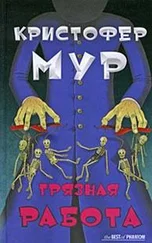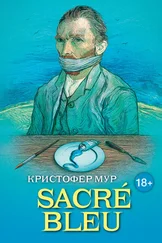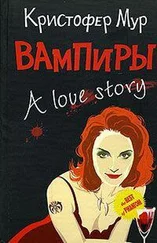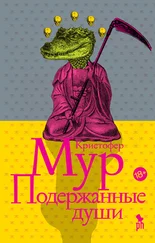Эстелль явно была не в себе, если ругалась такими словами.
— Так ты хочешь знать или нет?
Она отхлебнула чай.
— Прости. Давай дальше.
Тому лет полста это было. Я бродяжил по Дельте, шару сбивал в дорожных забегаловках со своим корешем Хохотунчиком. Его Хохотунчиком звали, потому что блюза́ никогда не догонял. То есть, лабать блюза́-то он мог, да только не чувствовал ни шиша — ни секунды. И в кармане сквозняк, и ломает его с бодунища — а все равно скалится. Хоть ты тресни. Я ему говорю: «Хохотунчик, ты ж никогда не залабаешь лучше Глухого Хлопка, покуда нутром блюза́ не почуешь».
А Глухой Хлопок Дормайер — это дедуля такой был, мы с ним джемовали время от времени. Видишь ли, в те годы до хрена блюзменов слепыми были, их так и звали — Слепой Лимон Джефферсон, Слепой Вилли Джексон, вроде того. А старина Хлопок — тот глухой как пень был. Но так не очень музыку залабаешь, слепому-то — еще куда ни шло. Играем мы «Перекрестки», к примеру, а Глухой Хлопок в сторонку отвалил и знай себе «Пешеходный Блюз» шпарит — да еще воет, что твой пес-недобиток. Мы закочумаем, сходим в лавку, возьмем прочуфанить себе, ко-колы там, а Глухой Хлопок все дальше заливается. Больше всех ему фартило, потому как не слыхал, насколько сам лажает. А у нас ни у кого духу не хватало ему об этом сказать.
Ладно, чего там. Вот я и говорю ему, мол, никогда ты не залабаешь лучше Глухого Хлопка, покуда блюза́ в себя не примешь.
А Хохотунчик мне: «Тогда ты мне должен помочь».
Вот, значит, а Хохотунчик же — кореш мой, еще по старым временам, партнер, можно сказать. Поэтому я ему говорю: я блюза́-то на тебя напущу, только ты уж чур не злись на меня, как я это сделаю — мое дело. Он говорит: лады, и я говорю: лады, — и начинаю блюза́ на него спускать с цепи, чтоб можно было на пару в Чикагу рвануть и в Даллас, записать себе пластинок, да «кадиллаком» втариться и так дальше, как у других парней, вроде Мадди Уотерса или Джона Ли Хукера и прочих.
А у Хохотунчика жена была, звали Ида Мэй, красотуля такая. И держал он ее в Кларксвилле. И постоянно хлестался: дескать, не болит у меня голова за Иду Мэй, когда я на гастроли уматываю, поскольку любит она меня единственно и страстенно. И вот как-то говорю я Хохотунчику: в Батон-Руже мужик один есть, сдает совсем новую банку «Мартин» всего за десять баксов — так не съездит ли он и не возьмет ли мне эту гитару, потому как у меня вдруг понос открылся, и на поезде мне ехать никак не возможно.
И вот полдня не проходит, как Хохотунчик из города, а я беру какого-никакого пойла, цветочков-фигочков и прямым ходом к малютке Иде Мэй. А она молоденькая совсем, пить ни хрена не умеет, но уж как только я сказал ей, что старину Хохотунчика поездом переехало, она кинулась из горла́ хлестать, точно из мамкиной титьки. То есть, в перерывах между воплями да слезами — а я и сам всплакнул, признаться, все ж таки партнер мой Хохотунчик был и все такое, упокой Господи его душу. И тут — сам опомниться не успел, а уже Иду Мэй утешаю как полагается, любовью в ее скорбный час и прочая.
Хохотунчик, значит, возвращается, и знаешь — ни слова мне, что я с Идой Мэй баловался, а говорит зато: прости, не нашел я мужика с гитарой, — отдает мне десятку и домой торопится, потому как Ида Мэй так рада его видеть, мол, что по особой программе его весь день обслуживает. А я ему: «Так и меня ведь она по особой программе обслуживала», — а он говорит: это ничего, ей же одиноко было, а ты — мой лучший друг. В самое блюза́, значит, парнишка вляпался, да только к нему ни хрена не прилипло.
Поэтому я что — беру напрокат «форд» модели «Т», еду к Хохотунчику и давлю там колесами его собаку, что на дворе привязана. А он мне: «Собака все равно старая уже. Я еще совсем пацаном ее себе завел. Так что самое время Иде Мэй щеночка подарить».
«И тебе не грустно?» — спрашиваю.
«Не-а», — отвечает. — «Собака свое пожила уже».
«Ты, Хохотунчик, — безнадега. Мне надо мозгой пораскинуть».
И вот сижу, раскидываю. Два дня раскидывал, как блюза́ на старину Хохотунчика напустить. Но знаешь что — даже когда этот парень стоял и смотрел, как дымятся угольки от его дома, в одной руке — Ида Мэй, в другой — гитара, он все равно только Бога благодарил, что они успели из дому выскочить и не ошпарились.
Мне проповедник как-то раз сказал, что есть такие люди — они до трагедии возносятся. Говорит, черномазые народы, они до трагедии должны вознестись, наподобие Иова в Библии, ежели хотят, чтобы воздалось им как полагается. И вот я прикинул — Хохотунчик как раз такой, до трагедии подымается, а сам только крепчает, когда пакость какая на него валится. Чтобы блюза́ себе схавать, есть много разных дорог. Не только ж пакости валятся, иногда и просто ничего хорошего не происходит — разочарование, слыхала такое слово, нет?
Читать дальше