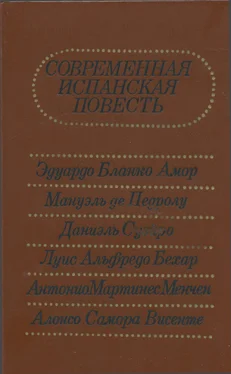* * *
— Да вот, я Касильда. Касильда Энерстроса, вдова Федерико Энсинареса…
— A — а, да, уже понял. Знаменитый писатель. Я обратил внимание, каким тоном заговорил с вами только что дон Карлос… Ужасная катастрофа! Я не имел чести быть знакомым с пим…
— Да вот…
— Во всяком случае, сеньора, жизнь так прекрасна, а вы еще так молоды… Полагаю, что…
— Не продолжайте, не продолжайте…
— Вы, вероятно, по — прежнему поддерживаете отношения с друзьями вашего мужа, не так ли?
— Да нет, обычно почти никуда не хожу. Но сегодняшний обед в честь дона Карлоса, почти в домашнем кругу… Я подумала, моя обязанность… Они так дружили!..
— Вы поступили правильно. Незачем ставить на себе крест. Это было бы величайшим грехом. Жизнь требует свое, в ней столько стимулов. Выбраться за покупками, на прогулку, в кафе со старым другом, в кино, в дальнюю поездку на субботу — воскресенье. Ни в коем случае не поддаваться унынию, ни в коем случае. Держитесь! Вы еще сможете взять свое. И я уверен, что немало есть людей, которые желали бы провести в вашем обществе не два часа, а гораздо больше…
— Что за вздор!.. Вы очень любезны, но я не нуждаюсь в том, чтобы мне поднимали настроение столь энер — гичио… Я с мужем много бывала в разных местах, оно понятно, у него была такая профессия, знаете, то коктейль, то цикл лекций, то съезд, то выступление перед читателями в связи с выходом новой книги, то вечеринка у такого- то или у таких‑то… Теперь продолжаю по инерции, хотя, конечно, не так, как раньше, само собою… Да вот…
— Если бы вы оказали мне честь!.. Мы могли бы пойти вместе поужинать сегодня же вечером. Нельзя же без конца предаваться горю. У меня есть ваш телефон, фамилия у вас очень известная… Я знаю одно спокойное уютное местечко, очень подходящее для людей нашего возраста, хорошая музыка, превосходная кухня… Вы не раскаетесь.
— Не знаю, право, как вам ответить, вы ведь меня понимаете? Мне никак не приспособиться к некоторым обычаям… С другой стороны, вы так обходительны! Мы вернемся к этой теме позже, ладно?
* * *
Ну вот, я сижу среди вас на этой пирушке, он так насмехался надо всем этим и все брал на заметку: лица, фразы, наряды, украшения, жесты, мишура — все для него имело тайный смысл, который мне уже недоступен, у меня голос обесцветился и смех тоже, не знаю, как терплю я этого прощелыгу, прелесть какие зубки, что он себе вообразил, у него изо рта пахнет, я уверена, разит за милю, а голый он, должно быть, просто страшилище, наверное, носит бандаж и в постели руководствуется брошюркой, купленной в газетном киоске, господи, что за мысли приходят мне в голову, а все потому, что я не знаю, куда мне смотреть, что делать, слезы у меня накипают, вот — вот хлынут, а к горлу подступает внезапно и неотвратимо плотный ком горечи, подступает, стремится наружу, взрывается приступами кашля и рыданиями, что я здесь делаю, я задаю себе этот вопрос с той минуты, как вышла из дому, но надо жить, как раньше, потому что дети… кто мог бы предположить — и вечные пересуды, и непонимание элементарных вещей; как хорошо он знал все это, знал заранее, всегда потешался, а я: не преувеличивай, люди вовсе не так злы и глупы, как ты упорно изображаешь, — а ведь на самом деле он попадал в точку, я и теперь могла бы повторить его слова со всей точностью и помню, в какой момент они были сказаны, в самый подходящий, уместный, и в каком контексте, я ему все перепечатывала на машинке — а теперь что? — печатать уже не надо и ничего уже не надо — и ждала его за работой, поглядывала в окошко, выходящее на террасу, слышала, как подъезжает машина, как он открывает садовую калитку, сколько раз он это делал, вот он идет ко мне, промелькнул — мгновенно, молнией — за стеклом, постучал по нему пальцами, намек на танцевальный ритм, обманчивая радость — ты одна? — а в комнате рассказал про дорогу, и про людей, и про погоду, и — пошли поедим в городе, или погуляем, или останемся дома, долгая сиеста, я даже не умею вспоминать, я столько раз ждала его, и мне некому все это рассказать, потому что в рассказе будет пустота, вот в чем дело, пустота из‑за отсутствия смысла, столько времени вместе, и вот умереть, наехать на какое‑то дерево, а ведь он так умел смотреть на деревья и угадывать нежность побегов, свободное место для юного листка, который уверенно развернется на ветке, как говорится в чьем‑то стихотворении, он всегда жил среди чужих стихов, цитат, ситуаций, драматических коллизий, славных имен, которые он вплетал в свои статьи, говорил, что это авторитеты с большой буквы, какие слова я сказала бы ему сейчас, если бы он появился, я знаю, что он не придет, это как нескончаемая ссора, смерть — это рассыпавшаяся в прах любовь, оставившая на твоих губах привкус часов счастья и бесконечную скорбь оттого, что их не воссоздать, мне хотелось бы, чтобы сейчас я могла думать, будто он в отъезде, уехал к своим родителям, я бы говорила себе, как тогда, где‑то он сейчас, с кем проведет этот вечер, будет неверен мне, наставит мне рога? — да, он случая не упустит, — но я бы знала, что, когда он вернется, смех его разгонит все тревоги, а то просматриваешь газету в страхе — вдруг самолет разбился, посадка на таком скверном аэродроме, интересно, о чем он будет говорить со своими, я‑то знала: то, что я в нем больше всего любила, то, что теснее всего соединяло нас, он не мог бы рассказать никому, это только для нас двоих, точнее, теперь — только мое, а ощущение отсутствия все усиливается, сейчас я не жду его на террасе, а сижу рядом с этим болваном и не жду его, нет, теперь я знаю, что он не придет и меня не согреют его ласки, такие бурные подчас, что я не успевала перевести дыхание, только открою дверь, он уже обнимал меня, опрокидывал, иногда прямо на пол, подле камина, на коврик или на циновку, и полудетский озноб от страха, что нас застанут, столько раз, ох, какое тайное упоение, а потом, в изнеможении и покое, глядеть, как дрожат на стенах отсветы пламени, считать и пересчитывать углы в комнате и учить наизусть все трещины на потолке, и пятна, и картины на стенах, и складки занавесок — снизу, еще с полу, и наслаждение еще так близко и уже так далеко, а мои пальцы скользят по волосам его, плечам, бокам, а мы смотрим друг на друга, в этом все дело, мы смотрим друг на друга, может ли существовать диалог лучше этого, где, господи боже, если рука моя вдруг потянется искать его… ладно, подкрашусь‑ка немного, нельзя, чтобы заметили, что меня бросает в жар, этот тип подумает, что на меня действуют пошлости, которые он подпускает, уж лучше бы предложил начистоту, без подходцев, а я бы сказала — нет, мне надо засесть за пишущую машинку, повиноваться тайной силе, которая притягивает мои пальцы к клавишам, и стучать, стучать, а локти ноют, что‑то горькое и коварное в этом ощущении, и время от времени посматривать в окно, прислушиваться, не слышно ли машины, может, он вернется к четырем, уйдет с этого собрания, у меня есть кое — какие сомнения, надо бы с ним поконсультироваться, неточно помню, нечеткие буквы, надо бы кое‑что выяснить, и тогда, может быть, мне легче будет принять эту очевидность, чуждую мне, что он не придет сегодня, что он уже по ту сторону забвения, и памяти, и скорби, и все‑таки я здесь, и подкрашиваюсь, и слушаю эту развалину, которая… ладно, он просто пустомеля, ничто не имеет значения, если не видеть мне больше в окошко, как он входит, посвистывая, и не слышать, как подъезжает его машина, и мне его не дозваться, дыхания не хватит… кто бы мог подумать, я соглашаюсь терпеть этого типчика в то время, как ощущаю снова и снова, что голос Феде еще звучит у меня в ушах и волнует меня, и я дрожу оттого, что его нет со мной, как тяжко мне, я как в изгнании — всегда с ним, ушедшим из жизни… А теперь, не знаю почему, такой звон у меня в ушах…
Читать дальше