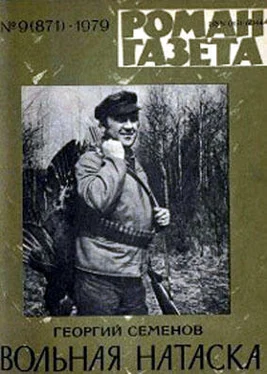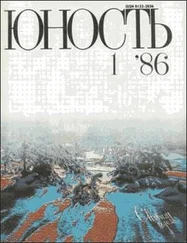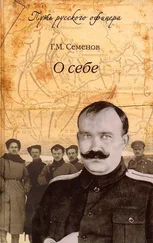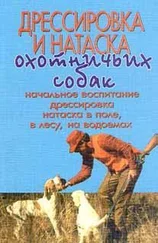Не смерти Тюхтин боялся, как он уверял себя, не болезней, а людей, которые могли бы узнать гораздо раньше его самого, что он уже не жилец на этом свете.
— Ничего себе положеньице! — восклицал он в нервном возбуждении. — Ты строишь планы, ничего плохого еще не предчувствуешь, а милая эта женщина, смотревшая тебя днем, наденет вечером тапочки и скажет мужу что-нибудь в эдаком роде: «Был у меня на приеме молодой мужчина, а у него вся печень (или что-нибудь еще)… превратилась бог знает во что…» Короче говоря — не жилец. А я ничего еще не знаю! — На кой черт мне нужен вершитель моей судьбы в тапочках! Знать я ее не хочу! — говорил он, все больше возбуждаясь. — Никогда не мог и не хочу представить себе положение, чтобы кто-нибудь за моей спиной шушукался о моем несчастье, о котором я сам еще не догадываюсь. Если бы у меня спросили, кто мой самый главный враг, я бы ответил: свидетель моего несчастья. А знаешь, как надо жить? По принципу: когда родился — не помню, когда умру — не знаю. И не ходить к врачам, хотя ты и сам врач… Но ты, Сизов, хирург. Ты честный мужик.
Они сидели, не снимая плащей, за голубым дюралевым столиком в стеклянном кафе. В тарелках стыли дряблые, переваренные пельмени, а в стаканах жирно блестел недопитый коньяк.
— Не придумывай себе болезни, ты здоров. Ты просто устал.
— Устал! С чего мне уставать? Это, знаешь, как журналисточка какая-нибудь спрашивает у передовика какого-нибудь: «Вы любите свою работу?» А человек смущается, мнется… «Люблю, — говорит, — а как же!» Словно про жену его спросили! Работу не любить, а делать надо! Чего ее любить! Должен! Чувство долга выше всякой там любви, а этого никто не хочет понимать! От «любви» устать можно, это верно. А если я должен? Тут щутки в сторону. Люби жену свою или чужую или соседку, когда она есть. Верно? А если я, например, люблю свою работу, а ты нет. Что получится, если на этом уровне. Люблю — не люблю! Любит — не любит, как на ромашке? Зарезал на столе человека… Ну что ж! Ты ведь не любишь свою работу, с тебя взятки гладки… Чушь собачья! У мужика должно быть развито, обострено чувство долга. Вот чего нам всем не хватает, черт побери! А ты говоришь — устал. До пронзительной боли в сердце чувство долга! Тогда ни усталости, ни пьянок, ничего этого не будет. А любовь пора бы оставить в покое…
— Ты о чем?
— О том самом, что не устал я ни черта, нет! — вскричал Тюхтин и зло повел взглядом вокруг. — Я не устаю от работы, потому что я ее не люблю, а просто делаю! Не устал я, а разозлился… Так что диагноз твой — липовый.
В маленьком битком набитом кафе люди с настороженным вниманием поглядывали на него и на Сизова, решив, вероятно, что они поссорились спьяну, хотя ни тот, ни другой пьяными не были, выпив по глотку коньяка, который только согрел их в этот пасмурный и холодный вечер.
В кафе, казалось, праздновали общую какую-то радость: люди были возбуждены и шумели не в меру. Пахло мокрой одеждой, дождем и пельменями. Улица отлого спускалась к тесной площади, к трамвайным путям, к кинотеатру, к метро… И люди мутными тенями шли сверху вниз, плыли за густо запотевшими стеклами, за которыми так же мутно и расплывчато загорались красные огни стоп-сигналов, отражаясь в мокрой мостовой, а в высоте так же нереально, в каком-то тумане менял свои цвета игрушечный светофор. Хлопала дверь. Старая посудомойка собирала бутылки, брала их, ворчала и уходила.
В этот неурочный для Сизова суматошный час «пик» его случайно встретил на улице Тюхтин и затащил в кафе.
— Что с тобой случилось? — спросил он. — Чего ты психуешь? Целое лето не виделись, а встретил как все равно врага. Ну что ты разорался на меня? С Олежкой, насколько я знаю, все в порядке. Верочка звонила нам, радостная, веселая, а ты… Погода на тебя так действует?
— Разве похоже, что психую? Пожалуй, погода тут ни при чем… Ты ведь знаешь, мы лето в деревне жили. Веру отпустили на два месяца с работы, а я наездами… Там река, лес… Жара была дикая! Олежке нельзя на солнце, мы с ним в дубах гуляли, гамачок ему там подвешивали… Олежка с деревенскими ребятами по очереди качался… Он у меня компанейский парень! Только вот возбудим не в меру. Ему это, сам знаешь, нельзя. Да и гамак этот надоел, слава богу… Сейчас гамаки без этих… без узлов… а в общем, гамак тут ни при чем. Дожди начались, похолодало. Грибы пошли… Ужас сколько грибов! Дубы под дождем мокнут, стволищи их потемнели, трава легла, а дубы, как мамонты под дождем, ушами своими зелеными пошевеливают от удовольствия. Я как дубы увижу старые… Знаешь, есть такие великаны. Растут не густо, прочно, даже ветвями друг друга не касаются. Я как увижу такие дубы, так у меня мамонты вымершие на уме. Ноги видны черные, а сами будто спрятались в зеленой листве. И трава под дождем полегла, словно ее дубы — эти мамонты — ; вытоптали. А пруд мутный, берега, как мыло, скользкие. Не захотел к нам приехать, а я бы тебя карасями угостил. Хорошие карасики — с ладонь… Гамак мокрый, все мокро, все блестит… Грустно и радостно. То дожди, то солнце…
Читать дальше