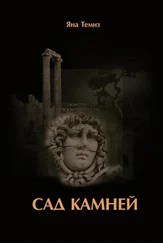Когда у человека в детстве нет своей территории, это навсегда. Если вся твоя приватность впихивалась в единственный запирающийся ящик стола — претендовать на большее личное пространство ты уже никогда не сможешь. Впрочем, это как раз не особенно помешало мне жить: только не в нашей профессии, построенной на постоянном контакте, на ветвистых взаимоотношениях и связях, необходимых для запуска человеческого механизма из множества кое-как пригнанных деталей. Я попросту не могла позволить себе самодостаточного одиночества — даже если б и умела.
Маму понять можно, ничего другого у нее, в общем, не было в жизни, только мои детские тайны, и то далеко не все. Уж я-то всегда умела сражаться за них. Так, что сотрясались стены, вспархивали птицы с карниза и ругались матом соседи. Так, что пробивало.
— …Вы слушаете?
— Да, конечно, Таша. Рассказывай.
— Зимой он живет вон там, за печкой. Ходит по ночам, если не знать, то немножко страшно. А весной убегает в лес, до самых холодов. В этом году не вернулся еще. Я как раз жду.
Кивнула, не стала переспрашивать: какое-то животное, наверное, не все ли мне равно, и незачем обижать ребенка, обнаруживая невнимание. Ташина комната была большая, просторная, как павильон на старой студии, и такая же пустая. Печка, лавка, сундук, пирамидка из трех подушек на лавке, льняные занавесочки и тюль на маленьком окне, почти не пропускающем света — золотые пылинки парят в узком квелом луче, — и две пестрые дорожки на полу, косым крестом от печки до сундука и от дверей к окну. Слишком много лишнего, невостребованного пространства — но все оно принадлежит ей одной, и это самое главное.
— А где твои игрушки?
Яркая, светоносная улыбка:
— Сейчас покажу.
Как легкий зверек, Таша прыгнула к сундуку, поколдовала над замком, откинула крышку. И принялась вынимать одну за другой, бережно, невесомо, все они лежали у нее в отдельных ячейках, переложенные чем-то желтым и мягким, вроде ваты или пакли, завернутые в тряпочки, которые она разворачивала осторожно, словно обезвреживала мины, установленные на бесценных произведениях искусства…
Что-то древнее, аутентичное, резное и расписное, ручной работы — я так думала. Какие у нее еще могли быть игрушки?
Не угадала.
Таша расставляла и рассаживала их даже не в ряд — причудливой шахматной цепочкой, исполненной тайного смысла. Голенастых барби с неродными головами и пучками кислотных синтетических волос. Аляповатых заводных черепах, лягушек и птиц с выломанными, по счастью, батарейками. Плюшевых зверей дикой расцветки и неопределимых биологических видов. Дешевые машинки, паровозики и кораблики мейд-ин-чайна. Разрозненные детали пластмассового конструктора, каждая в своем лоскутке. И так далее.
— Нравится?
Кивнула, сглатывая противный, как несъедобная слизь на языке, привкус откровенного вранья:
— Да. Кто их тебе подарил?
Она с готовностью, с ожидаемым удовольствием начала рассказывать. Вот эту барби — Отс, и мишку тоже Отс, а слоника прислали из города на праздник, а машинку — Мишка Каменок, он был хороший, не то что его братья, жалко, что уехал. Конструкторинки сама нашла возле каменковского дома, уже после, когда никого не осталось, вы никому не рассказывайте, а если вернутся и будут искать, я отдам. И черепашку Отс, но уже давно. Она раньше танцевала и пела песенку, а сейчас просто. Очень жалко, но все равно красиво.
— Красиво, — машинально повторила я.
А в общем-то оно же так и есть. Красота как безупречность, гармония, сад камней — в обычной жизни недостижима, и потому красотой чаще всего назначается то, что, наоборот, резко выпадает из привычного ряда, сверкает парадоксальной неожиданностью. Простейший прием, который сама же неоднократно пользовала, особенно в документалке, заказной, необязательной; но я же никогда не умела так, чтобы совсем уж спустя рукава, левой ногой, без единого гениального кадра — или косящего под таковой. Россыпь граненых гаек и болтов на снегу из «Профессионалов»: Пашка плевался тогда откровенной фальшивой постановочности кадра, а теперь его, по слухам, показывают первокурсникам в Стекляшке. Красота — это просто. Ее должно быть сразу видно, в упор, хлестким изумлением по глазам, а остальное не имеет значения.
Под конец Таша достала из сундука и пару совсем других игрушек, что-то деревянное, струганое, потемневшее и затертое временем. Бросила на ковровую дорожку небрежно, без уважения к возрасту, ручной уникальной работе и прочим нездешним предрассудкам. Китайские штамповки в ее мире ценились несравненно выше, и понятно почему. Небрежно, уже отвернувшись, захлопнула крышку сундука.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу