А враги есть, конечно, есть, иначе почему все так запутано, и почему бы мне так часто становилось трудно и плохо в самый счастливый на свете день? Мне... А Мамаю?
Очень сложно всегда с ним, а в последнее время особенно. Семядоля мне как-то даже осторожненько намекал, что-де Герман Нагаев для меня не самый подходящий друг, а если мы все-таки дружим, то я-де должен на него в лучшую сторону влиять. Повлияй-ка!.. А мать — так она прямо говорит, что терпеть не может Герку и что я мог бы завести себе приятелей поприличней. Странное дело, как будто друзей себе подбирают, словно бы биту-галю в бабки: какая с руки, а какая не с руки! Да если и не друзей: я, допустим, и сам знаю, что Васька Косой, и Миша Урка, и прочие барыги с базара не лучшие на свете люди, но с ними можно кое-какие дела делать, а, кроме того, меня просто тянет к ним, потому что мне интересно с ними, так как у них тоже есть свое, и своя правда, которую больше нигде не узнаешь и не скажет тебе никто.
А уж с Мамаем — с ним мы, видать, и верно что два лаптя пара, подходящий друг там он мне или подходящий враг. Вернее, такие мы с ним, наверное, и есть то ли друзья, то ли не друзья, как в песне «Служили два товарища в одном и том полке». Ежели бы случилось, как там поется: вдруг пуля просвистела, и товарищ мой упал, — все бы у нас, поди, дальше так и происходило:
Я подал ему ру-у-у-у-ку,
Я подал ему ру-у-у-у-ку,
Я подал ему руку, а он руку не берёть!
Я подал ему руку, а он руку не берёть!
Я плюнул ему в ро-о-о-о-жу,
Я плюнул ему в ро-о-о-о-жу,
Я плюнул ему в рожу — он обратно не плюёть...
В общем, как две говешки.
Хорошо, наверное, жить таким людям, как Оксана. Или хотя бы Манодя даже. Позавидуешь: радость сегодня — он и радуется. А разве ему когда легко жилось?
А мы с Мамаем будто радоваться еще не научились. Ведь Победа же!
И Оксана ведь мне сама только что такое сказала...
Но что у нас с Оксаной будет теперь, после того, как я такое натворил?
Э, да к бесу, к чертям собачьим: лучше не думать. Ни о чем подобном сегодня не надо думать, сегодня Победа, надо радоваться — и все, это главное. Все перемелется — мука будет! И никаких мук.
Мне же и самому ни о чем плохом не хочется даже и вспоминать?
Пока я так думал, мы и натолкнулись на людей, которые, видать, умели радоваться по-настоящему.
На углу Советской и Карла Маркса плясал на мостовой «яблочко» под гармошку здоровенный, наверное уже в годах, краснофлотец. Он плясал-плясал, потом ка-ак свистнет — едва не похлеще моего, потому что у меня у самого в левом ухе вроде как заложило, — и запел:
Эх, яблочко,
С боку зелено.
Воевать — не унывать
Наркомом велено.
Каждый новый куплет он начинал вместо обычного «эх» тоже свистом, и у него получалось сперва такое, через свист — вьсьюх, а лишь потом шли слова:
Вьсьюх! яблочко,
Лежит в ящичке.
Полюби ты меня —
Я в тельняшечке!
Вьсьюх! яблочко,
Да золотой налив.
Мы запомним навсегда
Керченский пролив.
Морячок делал пляску-пение с присвистом так, что в меня подмывало высунуться со своим «яблочком», но у меня на памяти было старое, всем и каждому, поди, да известное, а вот эдакого, свеженького, прямо в войну спеченного, даже я сам, да и никто, наверное, из зрителей-слушателей-глазетелей, не знал, потому что стояли, раскрывши рты.
Но все же плясать, петь и свистеть — заодно вместе — морячок, видно, устал: в годах же, да, может, еще и подраненный — стал только плясать. Но и бацал он тоже дай и ну! Его огромные, сорок последнего размера ботинки были подбиты подковками, и, несмотря на яркий солнечный свет, было видно, как из булыжников у него под ногами вылетают искры.
— Во кресает! — реагировал Мамай. — Что твоя катюша, хоть прикуривай. А ну-ка дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома!
Он и сам не удержался, лихо загнул чечеточное коленце.
Гармонист, нашего примерно возраста пацан, во всяком случае, не как тот, с баяном, которого мы сегодня встретили, этого-то из-за гармозени было все же видать — похоже, позавидовал на здравские морячковские куплетики, без остановки переключился на какую-то другую плясовую да и сам же запел:
Запевай, подружка, песни,
Чтобы Гитлер околел.
Распроклятая зараза,
Всему миру надоел!
Э-эх!
Ты не плачь, моя милая,
Не печалься обо мне.
Ведь не всех же, дорогая,
Убивают на войне.
Э-эх!
Клешник продолжал плясать и под новую музыку, а против него еще вышла та, здоровая, в ватнике и сапогах, которая на базаре плюнула в морду исусику, торговавшему картошкой. Ох же все-таки она и здорова! Моряк-то сам из таких, которых зовут Полтора Ивана, а эта, поди, не меньше чем две Дуньки-Маньки или сразу Дунька с Манькой в ней одной. Лихо бы ему было, если бы за такою Двудуней на базар увязался бы какой-нибудь комиссар (чур-чур не я!), а уж ежели бы командир да во сортир — тому бы и совсем стало кисло!.. Густым своим голосом она тоже пропела частушку, будто гармонисту в ответ:
Читать дальше
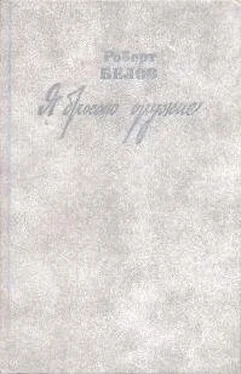
![Эдмонд Гамильтон - Звездный волк [= Оружие из прошлого, Галактическое оружие]](/books/25063/edmond-gamilton-zvezdnyj-volk-oruzhie-iz-proshlo-thumb.webp)

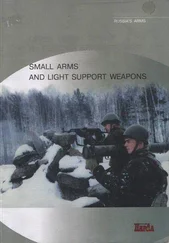

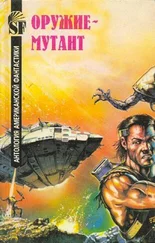

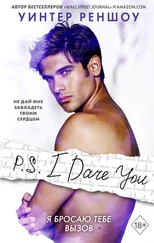

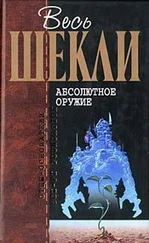
![Роберт Шекли - Абсолютное оружие (сборник) [litres]](/books/428612/robert-shekli-absolyutnoe-oruzhie-sbornik-litres-thumb.webp)