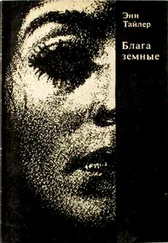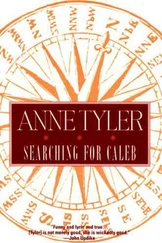Эзра, стоя у окна с чашкой кофе, наблюдал за почтальоном, который уныло тащился по улице, и размышлял, есть ли в жизни вообще какой-то смысл.
По лестнице осторожно спустилась Перл.
— Посмотри, — сказала она, — какое солнечное утро!
Когда Перл остановилась рядом с ним у окна, Эзра подумал, что она, наверное, чувствует солнце, потому что оно согревает ей кожу. А может быть, она видит солнце, все еще различает свет и тьму. Зато платье на ней было застегнуто неправильно; жидкие, седые с белокурым отливом волосы она, как всегда, закрутила в пучок и привычно мазнула розовой помадой по сухим поджатым губам, но один уголок воротничка стоял торчком, цветастое платье на груди оттопыривалось, и в просвете между пуговицами виднелась комбинация.
— Опять будет жарища, — сказал Эзра.
— Бедный Эзра, страшно смотреть, как ты в такое пекло идешь на работу.
О чем бы она теперь ни говорила, все так или иначе связывалось со зрением. И ведь не поймешь, сознательно она делает это или нет.
Мать попросила чашку кофе, но от завтрака отказалась и, пока он читал газету, сидела рядом с ним в гостиной. Время с утра до полудня они обычно проводили вместе. Затем Эзра уходил в ресторан и возвращался после полуночи, когда мать уже спала. Он понятия не имел, чем она занимается в его отсутствие. Иногда он звонил ей с работы — голос ее по телефону звучал бодро. «Решила приготовить себе чай со льдом», — говорила она. Или: «Разбираю чулки». Но в глубине комнаты слышались душераздирающие звуки органа — фонограмма одной из телевизионных мелодрам, и Эзра подозревал, что большую часть дня мать сидела перед телевизором, даже в такую жару накинув на плечи вязаную кофту и сложив на коленях холодные руки. Конечно, друзей она не принимала; насколько он помнил, их у нее не было. Она жила детьми — о том, что происходит в мире, знала только по их рассказам, а вся динамика, вся переменчивость жизни воплощалась для нее в их поступках. Даже работая в бакалейной лавке, Перл никогда не водила дружбы ни с покупателями, ни с другими кассиршами. И теперь, когда она оставила работу, никто из бывших сослуживцев не навещал ее.
Да. Эти неторопливые утренние часы наверняка были важнейшей частью ее будней — шуршание газеты, отрывистые замечания Эзры о происшествиях и событиях дня.
— Ограбили еще одного таксиста, — сообщал он.
— Боже мой!
— Опять перестрелка в центре.
— Ох, чем только все это кончится? — вздыхала мать.
— Террористы взорвали бомбу в Мадриде.
Перл позволяла Эзре читать ей газеты, письма, журналы, комментировать фотографии — тут он был ее переводчиком, а она сидела, уставившись невидящими глазами в одну точку. Во всем остальном Перл упрямо цеплялась за самостоятельность. Так в чем же, собственно, была суть их негласной договоренности? Мать признавала лишь, что зрение ее ухудшилось и ей стало трудно читать. «Она совершенно ослепла», — говорил врач. А сама она твердила Эзре: «Он думает, что я слепну», не возражая, но в то же время недвусмысленно намекая, что здесь можно поспорить и вообще многое зависит от подхода. Эзра научился объясняться с ней обиняками, в непринужденной, приемлемой для нее форме. Если, например, они куда-нибудь собирались, то он не говорил: «Мама, идет дождь», потому что на это она бы лишь с обидой бросила: «Без тебя знаю». Теперь он говорил: «Передают, что дождь сегодня так и не прекратится. Надо бы захватить зонтик». Тогда ее лицо прояснялось. «Сказать по правде, не верю я этим прогнозам», — отвечала она, хотя дождь моросил совершенно беззвучно и Эзра знал, что она не слышала шороха капель. Однако она искусно скрывала свое удивление и замешательство; только ее дети, привыкшие, что мать упорно отрицает собственную слабость, видели, что прячется в неподвижном воинственном взоре ее серых глаз.
Месяц назад сестра сообщила Эзре, что мать задала ей по телефону весьма странный вопрос. «Она поинтересовалась, правда ли, что, если долго лежать на спине, можно заболеть пневмонией, — сказала Дженни. — Я спросила, почему это ее волнует, а она в ответ: „Просто любопытно“».
Эзра отложил газету и потрогал шишку в паху.
Они допили кофе, Эзра вымыл чашки и прибрал на кухне, которая вопреки его стараниям всегда выглядела теперь неопрятно. Он не знал, что делать с посеревшими занавесками возле плиты, с кружевной, заскорузлой от пыли салфеткой под конфетницей. Можно ли стирать такие вещи? Взять и бросить в стиральную машину? Проще всего было бы спросить у матери, но он не решался. Ведь она расстроится и станет думать, а что еще она упустила.
Читать дальше
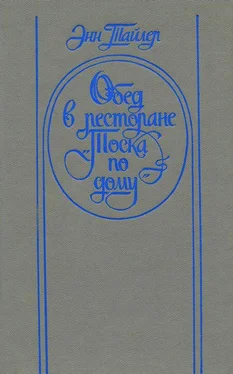








![Юрий Карабчиевский - Тоска по дому [Авторский сборник]](/books/407769/yurij-karabchievskij-toska-po-domu-avtorskij-sborni-thumb.webp)