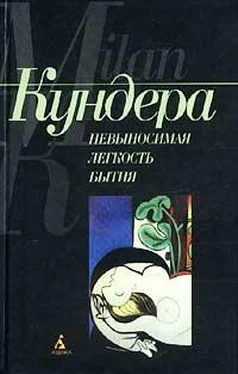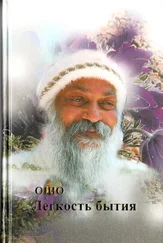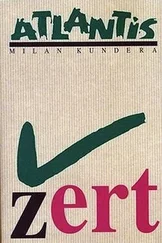Все трое немного посмеялись.
Затем Томаш сказал:
— Хорошо. Подумаю. Мы могли бы увидеться где-нибудь в ближайшие дни?
— Я всегда рад видеть вас, — сказал редактор, — но что касается этой петиции — время не терпит. Мы хотим завтра вручить ее президенту.
— Завтра? — Томаш вдруг вспомнил, как толстяк-полицейский протянул ему бумагу с составленным текстом, содержащим донос как раз на этого высокого редактора с большой бородой. Все принуждают его подписывать тексты, которых он сам не писал.
Сын сказал:
— Тут и раздумывать не о чем.
Слова были агрессивны, но тон почти умоляющий. Они сейчас смотрели друг другу в глаза, и Томаш заметил, как сын, сосредоточивая взгляд, чуть приподнимает левый уголок верхней губы. Эту гримасу он знал по собственному лицу, она появлялась, когда он внимательно разглядывал себя в зеркале, проверяя, хорошо ли выбрит. И сейчас он не мог удержаться от какого-то тошнотворного ощущения, увидев эту гримасу на чужом лице.
Когда родители живут с детьми с их младенчества, они привыкают к такой схожести, она представляется им чем-то банальным и, временами подмечая ее, они могут даже забавляться ею. Но Томаш разговаривал со своим сыном впервые в жизни! И сидеть против собственного искривленного рта было ему непривычно!
Представьте себе: вам ампутировали руку и пересадили ее на другого человека. И вот этот человек сидит против вас и жестикулирует этой рукой под самым вашим носом! Вы смотрели бы на эту руку, как на пугало. И хоть это была бы ваша собственная, столь родная вам рука, вас обуял бы ужас при мысли, что она коснется вас!
Сын продолжал:
— Ты все-таки на стороне тех, кого преследуют!
Все это время Томаш думал о том, будет ли сын обращаться к нему на «ты» или на «вы». До сих пор сын строил фразы так, чтобы уйти от этого выбора. Сейчас он наконец решился. Он говорил ему «ты», и Томаш вдруг понял, что в этой сцене речь идет не об амнистии политзаключенных, а о сыне: если он подпишет, их судьбы соединятся, и Томашу придется в большей или меньшей степени сблизиться с ним. Если не подпишет, их отношения по-прежнему останутся на нуле, но на сей раз уже не по его воле, а по воле сына, который отречется от отца из-за его трусости.
Томаш был в ситуации шахматиста, у которого не осталось ни одного хода, каким он мог бы избежать поражения, и он вынужден признать себя побежденным. Подпишет он петицию или нет — какая разница. Это ничего не изменит ни в его судьбе, ни в судьбе политзаключенных.
— Дайте-ка сюда, — сказал он и взял бумагу.
14
Словно желая отблагодарить его за такое решение, редактор сказал:
— Об Эдипе вы написали превосходно.
Сын подал ему авторучку и добавил:
— Некоторые мысли имели силу разорвавшейся бомбы.
Похвала, высказанная редактором, его порадовала, но метафора, которую использовал сын, показалась ему преувеличенной и неуместной. Он сказал:
— К сожалению, эта бомба угодила только в меня. Из-за этой статьи я не могу оперировать своих больных.
Это прозвучало холодно и почти враждебно.
Стремясь, видимо, приглушить этот небольшой диссонанс, редактор сказал (и это похоже было на извинение):
— Но ваша статья помогла многим людям!
Уже с детства под словами «помогать людям» Томаш представлял себе лишь единственную форму деятельности: врачевание. Но может ли какая-то статья помочь людям? В чем эти двое хотят его убедить? Они свели всю его жизнь к одной маленькой мысли об Эдипе, да, собственно, к чему-то еще более малому: к одному примитивному «нет!», которое он бросил в лицо режима.
Он сказал (и голос его звучал столь же холодно, хотя он и не осознавал этого):
— Я не знаю, действительно ли моя статья помогла кому-то. Но как хирург я спас нескольким людям жизнь.
Снова наступила минутная тишина. Ее нарушил сын:
— Мысли тоже могут спасти людям жизнь.
Глядя на свои собственные губы на лице сына, Томашу подумалось: до чего же странно видеть, как твои губы заикаются.
— Одна вещь в твоей статье была замечательной, — продолжал сын, и было заметно, с каким усилием он говорит. — Твоя бескомпромиссность. Ясное ощущение, что такое добро и что такое зло. Мы перестаем различать это. Нам уже неведомо, что значит чувствовать себя виноватым. Коммунисты отговариваются тем, что их обманул Сталин. Убийца оправдывается тем, что его не любила мать и что он подвержен фрустрации. А ты вдруг взял и сказал: не существует никакого оправдания. Никто не был в глубине души своей более невинен, чем Эдип. И все-таки он сам себя наказал, когда увидел, что совершил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу