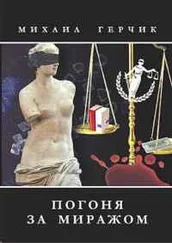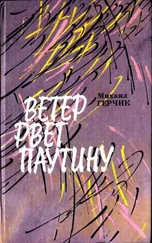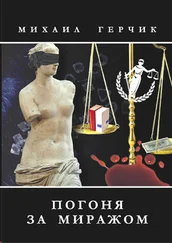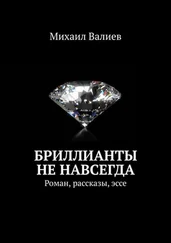Я хорошо знаю хозяев этой обуви; Лейбе в основном дают работу наши соседи, наша улица, чтоб поддержать старика. Денег за ремонт он берет самую малость, живет в основном на пенсию и возится с чужой рваной обувью, как он сам говорит: «С одного интереса, чтоб было чем руки занять».
«Тук, — стучит молоток. — Тук, тук!» Я совсем недавно выписался из больницы. Дома скучно, душно, с ребятами мяч не погоняешь… Я даже читать в такую жару не могу и целыми днями просиживаю возле старого Лейбы, слушаю его неторопливые рассказы о всякой всячине и смотрю, как ловко мелькают гвоздики в его изрезанных дратвой широких ладонях, как цепко держат отполированную ручку молотка кривые пальцы с выпершими косточками.
Лейба берет рваный башмак, как мать больного ребенка. Смахивает с него тряпочкой пыль, будто вытирает чумазому. внучонку нос, потом долго рассматривает сквозь очки в тонкой металлической оправе с засаленной веревочкой вместо правого ушка и что-то пришептывает, словно разговаривает с этим башмаком на только им двоим известном языке. Вид в такие минуты у него сосредоточенный и задумчивый, будто он решает сложнейшую математическую задачу, а не прикидывает, как лучше подбить каблук.
Изучив башмак до последней царапинки на коже, Лейба надевает его на лапу и потом уже работает не глядя, только гвоздики, молоток, шило или нож мелькают в его руках, и как же удивительно радостно смотреть на такую работу!
— А таких, как твой Евзик, я видал, сынок… — Лейба выплевывает на ладонь последний гвоздик и проводит языком по еще сохранившимся, но выщербленным, как у всех старых сапожников и кузнецов, зубам, будто проверяя, не застряло ли в них что-нибудь, кроме этого последнего гвоздика. — Встречаются еще на свете такие Евзики, чтоб их земля не носила! Говорят они про бога, а что той бог… Немцы тоже горлопанили: «Готт мит ундз!» А что они сделали, когда пришли к нам? Повесили на площади Свободы четырнадцать коммунистов, самых уважаемых людей в городе, сгноили в крепости тысячи пленных, а всех евреев загнали в гетто и загородили колючей проволокой, как диких зверей. — Ах, сынок, сынок, что тебе про это говорить…
Он вытирает руки о передник, и разглаживает ими бороду, и закрывает глаза, будто погружается в сон, и тихонько раскачивается на своей табуретке, и легкий ветерок шевелит его желтовато-белые, легкие, как пух, волосы, сквозь которые просвечивает серая кожа. Я молча сижу рядом.
На понедельник был назначен разбор уроков, которые мы дали за минувшую неделю, и обсуждение планов воспитательной работы. Поэтому утром, к девяти, мы собрались в университете. До звонка еще было минут десять, и тут Лида встала и сказала:
— Ребята, я ушла к Сашке. Отныне я его жена, слышите? То, что было у нас с Костей, — это моя беда и, может быть, его, и Сашина, и ничья больше. Я не хотела, чтоб так получилось, поверьте мне, но так получилось, и с этим ничего не сделаешь. Думайте обо мне, что хотите, но я вас очень прошу: не обсуждайте меня на всяких' собраниях. Я не боюсь никаких обсуждений, но нам всем будет от этого не лучше, а хуже.
Несколько минут в нашей аудитории стояла такая тишина, будто все сразу, все сорок человек, стали глухонемыми. Потом один из этих сорока встал и вышел из аудитории, хлопнув дверью. Это Костя Малышев. Что сделают остальные? Тоже уйдут?
Из- за стола поднимается второй. Это Андрей Верховский. Он подходит к нам.
— Лида, если ты поступишь с Сашкой так, как с Костей, я задушу тебя, — раздельно говорит Андрей. — Я задушу тебя, когда б это ни случилось, — через месяц или через сто лет, и где бы ты ни была, хоть в Антарктиде. Понятно?
— Понятно, Андрей, — отвечает Лида. — Что ты еще хочешь мне сказать?
Андрей смотрит на нас и вдруг застенчиво улыбается.
— А что я могу сказать? Собаки вы… Одно счастье, что госэкзамены на носу, турнули бы обоих из университета, как миленьких, и правильно сделали бы.
Он круто повернулся и размашисто пошел на свое место. А «глухонемые» ожили: зашептались, зашушукались, особенно девчонки. И в этом общем гаме, когда всем страшно интересны подробности, но никто еще не решается спросить, необычно резкий прозвучал голос Инки Лаптевой, добродушной толстушки с мелкими зубами и белесыми бровками: Инка принципиально не признавала косметики.
— Ты легкомысленная подлая дрянь! — звонко вы крикнула Инка. — Ты разбила жизнь одному, разобьешь и другому. Зря ты ей поверил, Сашка, мне жаль тебя. Совсем не такая дрянь должна была…
Читать дальше