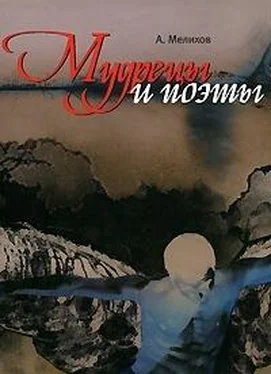Его сотрапезники также делали вид, что ничего не случилось, – даже самого Димы здесь не случалось. Только по их чрезвычайной предупредительности друг с другом видно было, что предупредительность их есть одновременно урок, средство изоляции и выражение безразличия, направленные против третьего.
Все это Дима, в сущности, прекрасно понимал, но изменить в соответствии с понимаемым свой образ действий, то есть как бы признать и согласиться с происходящим, он никак не мог. Поэтому он с непринужденным видом выжидал удобного момента вставить легкую остроумную реплику и начать искрящуюся, порхающую беседу трех свободных, знающих друг другу цену. Но они говорили о чем-то таком, о чем он понятия не имел, и, видимо, нарочно недоговаривали – с полуслова, так сказать, понимали.
Дима до того старался непринужденностью превратить случившееся в неслучившееся, что и вправду почти забыл о нем. Только когда они зачем-то направились на кухню, и Беленко с не оставляющей надежд свободой превосходно воспитанного человека пропустил Юну вперед, и Дима остался один, – только тогда система Станиславского отказалась служить ему.
Вернее, она давала ему то, что он был в состоянии у нее взять: он как бы еще не понимал, что произошло, – он был словно пустой внутри. Нехорошо – но непонятно отчего, тоскливо – но будто беспричинная хандра. И он в тоске мыкался по комнате, без нужды брал и рассматривал вещи, старательно ставил на место. Руки его, словно памятуя, как это прежде ему помогало, включили магнитофон, но даже обращение с элегантным устройством не вернуло им упругой точности. Вернее, орудовали они довольно сноровисто, но были чужие, и он мог бы с интересом за ними наблюдать, если бы захотел. Только не было у него такого желания.
Сквозь шикарную магнитофонную гнусавость пророс четкий, уверенно спотыкающийся электрический перестук, – и снова покинутый элегантно-умоляющий голос, странно сохранившийся оттуда, слышанный когда-то еще тогда, в той еще жизни, которая, уже и не вспомнить, была или ты ее потом выдумал. И когда Дима представил себя со стороны слушающим прежнюю песню – той поры, когда он был молод и счастлив, нахлынули обильные облегчающие слезы. Но он давно уже разучился плакать – слезы обожгли глаза изнутри мгновенным испугом, он дернулся, словно от удара, – и как не бывало. Только горечь осталась, столько горечи, будто нагорала много, много лет.
Дима поспешно выключил магнитофон. Зачем, дурак, он слушал эту женщину, слушал, как свои! Не для него она пела, не мог он стать своим в мире опрятных страстей, элегантного преуспеяния, отгораживающегося достоинства. Не мог он стать своим на пятачке, где что есть, то и должно быть, где все знают друг другу высокую цену, а остальному – более низкую, где умеют блюсти опрятность, сквозь которую чужаку не прорваться ядром и не проползти чумой. Не пара он им, потому что для него нет «чужаков». В этом его слабость. Свои были, а чужих – не было. Когда он выходил босиком на кухню, надо было отцу подозвать его и сказать: слушай, Дмитрий (отец с детства звал его по-взрослому), мы с матерью пентюхи, и ты будешь пентюх, – хоть семь шкур с себя спусти, а в восьмой все равно останешься пентюхом; и не гляди на сторону – и жена твоя будет пентюхом, и дети твои… Но все-таки как Беленко мог с первого взгляда раскусить, что он пентюх?
Да какой, к разэтакой мамаше, пентюх! Свободы в нем не хватает? – свободы «плюй на всех, а мы с папенькой и маменькой пупы земли». А мелочность – так со свободных тоже копейку не запросто слупишь – видимость только оказывают, что им море по колено.
А свобода от людского мнения – теперь ему известно, что это такое.
За что он точно пентюх, что оторвался от своего кряжа и лепится к ним, хочет притвориться таким, как они, – отчетливое чувство независимости от них казалось ему отчетливым представлением о том, кто такие эти они, – в них был и Беленко, и женщина в магнитофоне, и многообразная галерея всевозможных свободных, уверенных, что все у них как надо.
И конечно, трудно ему было перед ними выстоять – они-то среди своих, им и стены помогают. Это раньше, наверно, было: где человек воспитался, там и жил, никому поэтому в голову не приходило, что можно быть не тем, кто ты есть. А сейчас представления о том, что лучше-хуже, получаешь в одной среде, а пользуешься ими в другой, – попробуй тут не покачнуться.
И Дима со злостью подумал было о кино элегантности, которую невольно берешь за образец и которая сбивает людей с толку. Однако он тут же перерешил, что все дело в отрыве от корней: без этого никакая дурь не собьет тебя с ума. Фильмы всякие есть, мы же для подражания специально подбираем себе по вкусу. Кто же виноват, что у нас такой вкус!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу