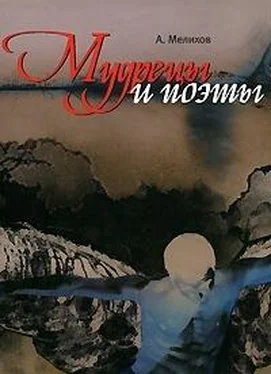Юна все спрашивала о каких-то незнакомых знакомых и сама бегло пересказывала Ленке (?) что-то о других знакомых, про которых тот не спрашивал, – от обилия незнакомых имен у Димы еще тягостнее заныло сердце. К некоторому его облегчению, она довольствовалась краткими справками, которые Ленка давал, с утомленным юмором приподымая брови и для пущего остроумия прибегая к напевной интонации некоего старичка-сказителя из радиостудии: жили-были, мол, старик со старухой… Как будто может быть остроумным то, что делают сто тысяч человек, – Дима сто раз слышал этот юмористический речитатив, а остроумие обязано содержать элемент неожиданности.
И все-таки Дима не сумел бы так сыпать без умолку.
– Емельяновы-то? Развелись, развелись… Как так почему? Поди, надоело-то носить головной убор тевтонского вождя. Блудливая женщина попалась. Он, однако, тоже отнюдь не препоясывался поясом верности. Он же с Лопуховой – знаешь? Ну что ты, роман века!
– Беленко, ты неисправим.
(Вот что за «Ленка» – Беленко! В «неисправим», кстати, слышалось поощрение, снова убеждая Диму, что остроумным может считаться только злословие.
А Беленку он, кажется, припомнил – что-то такое Юна говорила о нем как о скорорастущем научном работнике; Диму это, конечно, укололо, и он спросил: «Он умный?» – как человек, имеющий право спрашивать об уме, притом с таким нажимом, что всякий бы усомнился, прежде чем ответить. Вдобавок в вопросе был и подкуп – признание права судить об уме. Ну а когда тебя назначают судьей, невольно хочется судить построже. Однако Юна спокойно ответила, что очень умный, наведя на Диму уныние, и добавила, что он совершает какие-то важные открытия. Как будто Дима этим умом интересовался. Умный – это с которым можно поговорить.)
– А как ваш драгоценный шеф? – тем временем спрашивала Юна.
– Стрельников-то? Маразмируем-с, маразмируем-с.
– Как же, он ведь недавно получил премию имени Степанца? – Спрашивает как будто намеренно простодушно, так обычно поощряют к саркастической реплике. И пожалуйста:
– Естественно, ежели он сам ее выдает. Витюля Баранов мне вечор плакалси – он у Стрельникова сподобился аспирантуры…
– Баранов к Стрельникову устроился – не знала!
– Все там будем. Все стекает к нам в НХТК, а оттуда прямая дорога к Стрельникову. Устланная, кстати, благими намерениями. Ну-с, так шеф за два года никак не мог урвать часок от послеобеденного сна, чтобы потолковать с Витюлей о его десерте, Витюля же с готовым десертом к нему прибыл, Стрельников только таких набирает себе в рекруты. Наконец-таки Баранов его улестил склонить хотя бы одно ухо к Витюлиному талмуду. Шеф устроился в кресле, Баранов у его ног – и замурлыкал. Каково же, как говорится, было барановское удивление, когда, зачитав введение, он поднял глаза, чтобы отвергнуть нескромные восторги, оскорбляющие его целомудрие, – (Дима ждал, что Беленко запутается в таком длинном периоде, но тот лихо причалил), – и увидел, что шеф спит и даже явственно похрапывает, чего он не сумел приметить, поскольку уши ему заложило уважением ученика к учителю.
Юна смеялась – никогда он ее такой не видел, – спрашивала, что же Баранов. А что Баранову? Посмотрел, как Баранов на новые ворота, и пошел себе помаленьку. Здесь Дима понял, как она смеялась – не облегченно, а просто свободно , как смеются среди своих. Смеялась опрятно, как в кино, и без восторга к беленковской манере, а как бы даже раз навсегда махнув на нее рукой, но как со своим. И говорила, и спрашивала обо всех них тоже не без насмешечки – впрочем, с Беленкой, видно, иначе говорить нельзя, – но как о своих, без печальной дымки достоинства, – неужели это была дымка ограждения от фамильярности? Дымовая завеса, прикрывающая отстраненность, нежелание сходиться ближе? Иначе почему она исчезла в разговоре со своим?
От страха Дима почувствовал слабость в коленях.
Да что же они за «свои»? Одноклассники, составлявшие с восьмого класса оппозицию литераторше за то, что она серая баба, или математичке, или еще кому-нибудь? Сокурсники, составлявшие оппозицию какой-то другой оппозиции? Да мало ли в силу каких оппозиций возникает набор «своих»! А потом он закостеневает и уже не может расширяться. (Все-таки в смехе ее было нечто по-Диминому домашнее: выдыхала она немножко чересчур сильно, так что дыхание у нее как бы немножко заклинивало, и вдох она делала как бы с легким усилием, как бы с едва слышным пристаныванием. Мило это было до сердечного спазма, но ведь смеялась-то она не ему, поэтому настоящего умиления он не испытывал, – умиление – это когда чувствуешь себя намного сильнее того, кого любишь.) Но может быть, все они ей «свои» только из-за того, что знакомы с каких-то давних пор и манера обращения с ними с тех пор и законсервировалась? Ведь бывает, ее и неудобно менять… (В догадке было много истины, но Дима уже не мог поверить во что-то хорошее.) Бывает, выбирают немногих «своих», чтобы показать остальным, что не водят знакомство с кем ни попадя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу