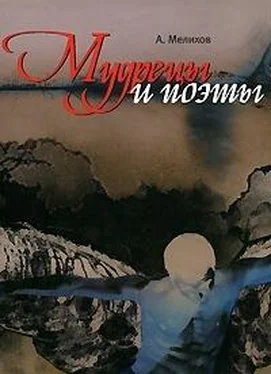А между тем, казалось ему, мало кто мог так хорошо понимать, какое это счастье – близкая женщина.
Не слюнявые объятия – что-то такое у него бывало, – нет, он знал так ясно, словно прошел через это, как чудесно иметь друга, который тебе ближе, чем ты сам, которому можно рассказать, что и себе постесняешься: сам ты все-таки мужчина, а перед ними нужно держать марку. А этот друг понимает больше, чем сказано. И друг этот нежный и робкий, ты его сильнее, он жмется к тебе в трудную минуту, ты тоже для него опора, потому что трудно вам разное.
В поздней, «духовной» стороне его воображения, похоже, испытавшей влияние кинематографа, брезжила какая-то такая картина: элегантная постель, двое, видна божественная линия ее руки и рассыпавшиеся волосы, его голые плечи и мускулистая шея, но дело совсем не в том, что постель и плечи, они и не замечают, что постель и плечи, – они разговаривают.
И разговаривают не потому, что волей обстоятельств попали в одну постель, как разговаривают попутчики в поезде, – нет – им хочется разговаривать, им интересно разговаривать, каждый из них ужасно хочет поделиться своим и принять чужое, они спешат все узнать друг о друге, перемешать свои души в одну. Они смотрят в глаза друг другу без тени скованности, то есть стыда, потому что у них нет и тени задней мысли, они ничего не собираются выгадать друг на друге. Мелочные потому всегда и скованны, что у них постоянно есть какая-то задняя мысль.
Диме ох и редко доводилось смотреть в глаза без тени скованности!
Ранней же, «телесной» стороне представлялось что-то в таком духе: праздник – Май или Седьмое, утро, босиком, шлепая по полу, выходишь в кухню и стоишь, сморщившись от света, а у стола мать с отцом. Отец в белых солдатских подштанниках и такой же рубахе, уже пропустил стопарик-другой, оба улыбаются – сидят себе довольные и болтают вполголоса, а когда замечают тебя, улыбаются уже другими улыбками, друг для друга у них улыбки не такие; тут, едва стукнув, входит соседка, и отец, всегда такой основательный, рысью мчится в комнату, – в глазах у Димы так и стоит его нога в белой штанине, торчащая из-за косяка. «Ишь, сорвался!» – смеются мать с соседкой, но Диме кажется, что соседка завидует, что она не допущена в число «своих» – среди кого можно сидеть в подштанниках.
Вот «телесное» семейное счастье – сидеть в подштанниках и разговаривать! Особенно о пустяках – значит, ты интересен вплоть до пустяков.
Диму привлекали женские лица с тайной озабоченностью. Не мелкой, ограниченной озабоченностью и не тяжелой, мучительной, а озабоченностью грустной. И достойной. Ведь только с озабоченным человеком и можно говорить серьезно, потому что озабоченность – это и есть серьезность, а веселость легкомысленна. Только озабоченность должна лишь угадываться, не быть сосредоточенной на себе, как умение вести себя не должно быть сосредоточено на хороших манерах – все должно делаться само собой.
Не было ли в его склонности одновременно к свободе и озабоченности следов того же противоречия души и тела? Было. Но только частично. Свобода в его представлении исключала мелкую озабоченность, роняющую человеческое достоинство, – слово «мелкая» не казалось ему расплывчатым. И время показало, что требования его не были противоречивыми – они соединились в Юне, душа и тело. В ней были свобода и серьезность, простота и достоинство. Уже через полчаса он чувствовал себя с нею так, словно они десять лет знакомы, хотя в ней ни на миг не исчезало обычно немного подавлявшее его достоинство. Достоинство и некая дымка печали. Дымка серьезности и достоинства.
Уже через полчаса он решился, как бы в шутку, рассказать ей о недавнем случае, вызвавшем в нем что-то вроде умиления: он ночью вышел в кухню и услышал, как в темноте вдруг включился и загудел соседский холодильник – один, ночью, в темноте, никто его не проверяет, мог бы притихнуть и пересидеть, пока хозяев нет, а он, как пришло время, загудел – значит, трудится для себя, а не для проверяльщиков.
И по тому, как она с дымкой печали улыбнулась и задержала на нем понимающий взгляд, ему стало ясно, что понимает она больше, чем сказано. Тогда он рассказал ей, что отец его, классный слесарь, тоже работал не для проверяльщиков, а была у него такая гордость, что все он сделал как надо – пусть даже он один это замечает. Деньгу-то он, впрочем, тоже всегда умел заколотить, но – деньга деньгой, а гордость гордостью. Но, может быть, холодильник тогда просто обознался в темноте, решил, что зашел хозяин?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу