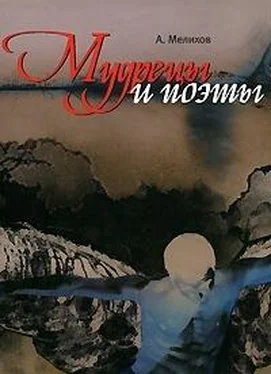И он почувствовал необыкновенную свободу как духа, так и плоти: совершенно не заботясь о том, как он выглядит, на ходу вскочил в электричку – раздвижных дверей в провинции еще не было – и захватил целое купе – куда сам сел, а куда успел раскидать кое-какие шмотки.
Девчонки тоже что-то почуяли – не сумели даже как следует поднять смех насчет разбросанных шмоток, тем более что Галка Кардаполова решительно их не поддержала. Пришлось им смеяться, что никто ничего не взял поесть.
– Ну, Виталик-то наверняка захватил, он свой животик лю-убит! – попробовала одна из них удержать обкатанный полигон для смеховых отправлений, и он явственно увидел во взгляде Галки Кардаполовой надежду, чтобы у него никакой жратвы не оказалось. И он остался совершенно спокойным, только позу переменил на еще более удобную.
Но бутерброды начали жечь ему грудь. Он не спеша выстукал беломорину из пачки и вышел в тамбур. Воровато оглянувшись, он извлек бутерброды, приоткрыл дверь и уже хотел спустить их туда, – но он был воспитан в таком благоговении перед едой, что уничтожить прекрасные бутерброды было для него немногим легче, чем отрубить себе палец.
И он принялся поспешно набивать рот хлебом с корейкой и жевать, жевать… Когда он в очередной раз воровато оглянулся, перед ним стояла вышедшая к нему Галка Кардаполова, оцепенело уставившись на его раздувшиеся, как у хомяка, щеки и помидорину в руках. Лишившись остатков разума, он попытался уничтожить улику и впился в помидорину зубами. Она лопнула, прыснув им в лица томатной пылью. Галка резко крутнулась и скрылась в вагоне с помидорным семечком на подбородке.
Впрочем, по другим сведениям, все было гораздо проще. В предыдущем купе старуха пила из бутылки кефир, который казался ей испорченным, как и все, что ей доводилось есть. Поэтому она всегда съедала столько, чтобы уже не жалко было оставить, а остатки с отвращением швыряла в помойное ведро, отбрасывала, выплескивала – смотря по обстоятельствам. На этот раз она возмущенно осмотрела на дне бутылки оставшуюся пару глотков и, разболтав на прощанье, гневно выхлестнула за окно.
А Виталий стоял у следующего окна, вольно отдав прохладному ветру свое освобожденное лицо. И когда ему в это лицо ударило неожиданным дождем и он отпрянул от окна – девчонки, увидев его, чуть не попадали со скамеек, а с Галкой Кардаполовой буквально сделались судороги.
Тогда-то он и начал учиться молчать и теперь овладел этим искусством в совершенстве.
Катя поставила пластинку Окуджавы. Виталий хорошо помнил то время, когда лишь отдельные разбитные счастливчики владели Окуджавой на пудовых магнитофонах, и то, что он сейчас тоже совершенно свободно допущен к Окуджаве, казалось ему каким-то преодоленным жизненным порогом.
Он иногда удивлялся даже, как ему повезло, как утонченно и содержательно он проводит время, возвышаясь над повседневностью: стихи, музыка… Он очень страшился чем-нибудь осквернить этот храм и всегда с великим смущением доставал из портфеля какое-нибудь приношение к чаю.
Диванчик ее вместо ножки опирался на стопку «Вопросов литературы», и ему давно хотелось его отремонтировать, и он уже и шутку для зачина придумал – сам удивлялся, какую тонкую: опираться нужно на ответы, а не на «Вопросы», – но так все и не мог решиться… Диван – это уж до того обыденно…
Для нее это времяпрепровождение, конечно, не было столь уж возвышающим над повседневностью. Тем более она не допускала в свое сознание – в отчетливой форме – такие унижающие мещанские понятия, как «серьезные намерения», «замужество» и т. п. – особенно в связи с простоватым Виталием. Но так приятно было, свернувшись калачиком под теплым одеялом и обставив диван стульями, почувствовать себя крошечной в маленьком уютном мирке.
…И чар полночных сила несла мне свой покой и сердце примирила с безвыходной судьбой.
Она подоткнула одеяло со всех сторон, а холодок снова пробрался изнутри – и стало страшно открыть глаза. Раньше ей даже нравилось вдруг распахнуть веки и увидеть свое гнездышко в сказочном ночном освещении, но в последний год глаза ее все чаще вдруг становились бесстыжими, как у Вити Маслова, называли все по имени и отнимали аромат у живого цветка: они могли вдруг увидеть не гнездышко, а скудную комнатенку, из которой крашеной дощатой перегородкой была выгорожена кухонька с баллонным газом. Эти глаза могли увидеть под диваном стопку «Вопросов литературы», которая сразу же начинала жать, словно горошина сквозь десять тюфяков, а на диване – одинокую стареющую женщину, а за окном – черноту, сквозь которую можно идти годы и годы и не встретить ни единой родной души… Впрочем, нет – где-то за чернотой, за капустными полями сверкали города, по улицам которых можно бродить часами и – о, счастье! – не встретить ни одного знакомого лица… а когда захочется, можно отправиться и к знакомым лицам и хоть до утра вести безумно интересные разговоры – не просвещать, а говорить как с равными, то есть не рассуждать, а просто восхищаться… Ведь был же когда-то и большой город, и филфак, и лекции Андрея Николаевича Синицына, и – ночи напролет – сигаретный дым, кофе, и – стихи, стихи, имена, имена… Хоть бы кошку, что ли, завести… превратиться в нормальную старую деву, помешанную на своей кисуленьке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу