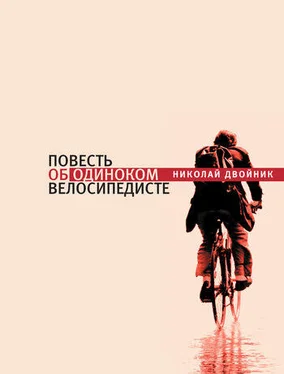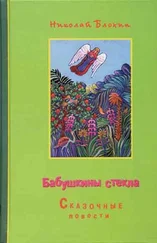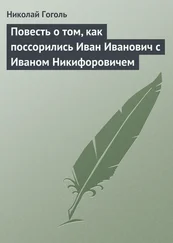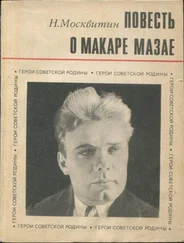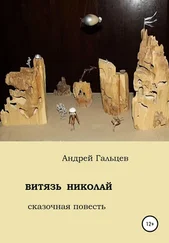– Чем ты теперь занимаешься?
– Ничем, – я пожал плечами, – отдыхаю.
– Три недели ничем не занимаешься?
Три недели, подумал я. Да, три недели. Удивительно быстро прошли. И я ничем не занимаюсь. Три недели.
За окном шли люди, некоторые спешили, и я почувствовал себя очень счастливым, что прошло три недели, первые три недели за много-много лет, когда мне не надо было никуда спешить. Я откинулся на спинку и потянулся.
– Ни-чем!
Лена посмотрела на меня и не смогла ничего возразить на мою блаженную улыбку.
– Ты думаешь, это так просто ничего не делать? Ничего подобного, это очень сложная задача! Я в первые дни буквально извелся – не мог сидеть без дела, отвык ничего не делать. Последний раз я отдыхал после первого курса, а потом пошло – работа, подработка, учеба, дела… брал только отпуска на неделю, на две… Может, поэтому стал кататься на велосипеде – так не чувствуется безделье.
В-шестых, с непривычки больше тридцати километров проехать было сложно. Однажды без карты я заехал в парк на берегу реки, где – вот так странно – я не был никогда раньше. К нему примыкали старые дачи, и это было тоже странно – город, дачи… Рядом большой жилой район, а тут – как старый пригород. «Пахнет как у нас в туалете», – говорит маленькая девочка, прижавшись носиком к вылезшему из-за дачного забора цветку жасмина. Затем я лежал на изгибе реки, в соснах, и думал, что эти годы офисной жизни не только отняли у меня время, но и отняли друзей, почти все потерялись, обзавелись заботами, делами, другими знакомыми. И мне даже не с кем покататься на велосипеде. Нет, мне не скучно. Просто рассуждения о жизни.
После парка я ехал домой по самой жаре. Устал ужасно. 37 км.
Еще на дисках я нашел электронную карту города. Ее прелесть заключалась в том, что на ней были изображены все строения, включая гаражи, бойлерные, безымянные будки газовых, водных и прочих служб, сараи, заборы, железнодорожные ветки (даже такие, которыми, по моим собственным наблюдениям, не пользовались лет двадцать). О большинстве зданий были известны номера и даже сведения о том, что в них расположено.
А кроме того, за что я карту особенно полюбил, – она позволяла проложить произвольный маршрут любой сложности из одного пункта в другой и подсчитать его протяженность. Компьютер мог самостоятельно проложить маршрут, нарисовав его желтым зигзагом, только эти зигзаги оказывались на самом деле не самыми короткими и не учитывали забитый центр и постоянные пробки на основных магистралях.
Так что в результате я прокладывал сам свой предполагаемый путь по улицам и переулкам, через дворы и парки, обходя нехорошие места. К тому же кое-что изменилось – тут построили дом, здесь поставили забор, там расширили развязку и проложили новую улицу…
Маршруты оказывались, когда я увеличивал масштаб, чтобы просмотреть все целиком, очень извилистыми, и я лишний раз убеждался, что дороги в городе проложены довольно бестолково. А когда я, руководствуясь полученной ломаной линией, выезжал в город, то протяженность этой линии на счетчике неизменно оказывалась примерно на десять процентов больше, чем насчитал компьютер.
Так появился второй поправочный коэффициент – 1,1.
«Русский авось» – это вариативный поправочный коэффициент, значение которого выбирается с учетом существующей необходимости. Так говорил наш профессор статистики.
Я раньше очень мало ездил по городу. Если только ехал на дачу, к себе или к кому из знакомых. Отец тоже не любил ездить по городу. Не видел в этом никакого удовольствия. И сколько себя помню, мы постоянно катались на дачах. Сперва на съемных, потом на своей. Маршруты были разные, ему нравились новые места, новые дороги. И сколько я посмотрел этих дорог за свое детство и школьные годы – шоссейных, изогнутых, прямых, ровных, с разбитым покрытием, лесных, с лужами, заваленных сосновыми иглами, прыгающих по корням, вечерних, утренних, жарких дневных, утопающих в пыли, разбитых грузовыми машинами, никуда не ведущих, скользких от дождя, нагретых оранжевым солнцем, уходящих в туман, разгоняющих тебя на склонах, обдувающих ветром, подбрасывающих на неровностях твою вцепившуюся в руль тень. Я не знаю, сколько я проезжал. У меня не было на велосипеде счетчика. Был только у отца. Но лет с десяти я часто уезжал один. Так что не знаю.
Очень приблизительными были карты. Сейчас карты тоже довольно приблизительные, но тогда они были еще более приблизительными. Так что мы часто ездили с ними на авось. Рассчитывая проехать сорок кэмэ, а проезжая в результате шестьдесят. «Русский авось». И нельзя было угадать заранее дорогу. В городе не так. А там никогда не знаешь, что за покрытие тебе попадется. Даже если по карте – это асфальт. Иногда бывал такой асфальт, что лучше уж было бы ехать лесными просеками. А еще бывали бетонки – дороги из уложенных бетонных плит, прямоугольных или шестиугольных, с не всегда ровными стыками. Много чего бывало.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу