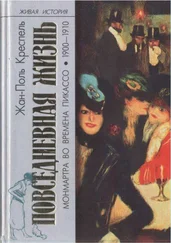Несколько дней погодя, когда коллективное похмелье ненадолго положило приятный предел революционному загулу, отец призвал меня и Володю в свой кабинет и прозаично известил нас, что считает дальнейшее наше пребывание в Санкт-Петербурге неразумным. Ленин объявил о срочном формировании Красной Армии, в которую, вероятно, будут призваны и молодые люди вроде меня и Володи.
— Вы отправитесь на юг, в Крым, который пока не перешел под власть большевиков. Графиня Панина щедро предложила вам приют в ее поместье под Ялтой. Климат там прекрасный. И совсем близко Ливадия, в которой просил дозволения поселиться несчастный Царь.
Сам я на какое-то время останусь здесь, но остальную семью пошлю в Крым вслед за вами. Я выдвинул мою кандидатуру в члены Учредительного собрания. Выборы его состоятся в назначенный срок. Большевики слабы и власть удержать не сумеют. Милюков шутит, что митингуют они стоя, а не сидя, чтобы легче было разбегаться.
Отец усмехнулся, но по глазам его я понял, что сам он думает иначе.
На следующий день он провожал нас на Николаевском вокзале.
Отправление поезда задерживалось, отец сидел за столиком вокзального ресторана, пил кофе и набрасывал своим текучим почерком статью, надежды на публикацию которой — поскольку большевики уже закрыли все либеральные газеты — представлялись такими же сомнительными, как отправление нашего экспресса.
Чтобы отвлечься от мыслей о происходящем, я стал наблюдать, прислонясь к колонне, за голубями, сидевшими высоко над нами на железных балках. Иногда один из них срывался, шумно хлопая крыльями, с места, описывал неторопливый круг и возвращался к своим компаньонам, — как я завидовал этим заурядным птицам, которых не трогали глупости, творимые под ними люди. Мне и на миг не пришло в голову, что я никогда больше не увижу Санкт-Петербурга, что эта унылая картинка — голуби сырого и холодного Николаевского вокзала — станет одним из самых последних моих воспоминаний о доме. Несколько неспокойных недель, думал я, — и все рассосется. Отец позаботится об этом. И казалось, что его деловито бегавший по бумаге карандаш обещал нам никак не меньшее.
Володя, чрезвычайно элегантный в его темном фланелевом костюме, прохаживался по ресторану, презрительно разглядывая плакаты, которыми большевики оклеили весь вокзал. Время от времени он тыкал в какой-нибудь из них тростью, неблагоразумно привлекая к себе внимание. Трость принадлежала когда-то дяде Руке, ныне же Володя использовал ее, чтобы щелкать по носу В. Ленина.
Наконец, после многочасовой задержки, паровоз симферопольского экспресса пустил пары. Отец встал, сложил бумаги в портфель, коротко перекрестил меня и Володю, а затем добавил, словно спохватившись:
— Весьма возможно, мои дорогие, что больше мы никогда не увидимся.
Он удалялся от нас — воплощение героического хладнокровия, — и Володя бросил на меня взгляд, который я никогда не забуду. Вся его бодрость, казалось, покинула моего брата вместе с отцом, которого мы так любили. И мы с неотвратимой ясностью осознали серьезность нашего положения.
Тем не менее, устроившись в уютном спальном вагоне первого класса, мы открыли бутылку мадеры и пару бутылок минеральной воды, развернули фольговые обертки шоколада, миндального печенья, тепличных персиков, которыми столь предусмотрительно снабдила нас мама, и немного повеселели. Плавно покидавший Санкт-Петербург экспресс казался нам мало чем отличным от тех trains de luxe [50] Поезд люкс (фр.).
, которыми мы добирались в прошлом до Биаррица и Аббации, и трудно было не вообразить, что мы снова устремились к какому-то приятному морскому курорту.
Впрочем, после Москвы все стало меняться от плохого к худшему. На каждой станции в вагон набивались солдаты и снова солдаты, по преимуществу пьяные. Известие о ленинском перевороте, поняли мы, привело к повальному дезертирству с фронта. Разбегавшиеся по домам солдаты сидели и лежали в коридорах поезда, распевая срамные частушки. Вскоре они начали колотить в дверь нашего купе, желая поделиться с нами своим веселым настроением. Володя же в не меньшей мере желал уберечь наше купе от незваных гостей.
— Здесь карантин, — крикнул он лупившим по двери солдатам. — Осторожно. Человек в тифу. Вы разве не прочитали висящее на нашей двери официальное извещение?
И он, лихорадочно строя гримасы и жестикулируя, потребовал, чтобы я изобразил больного. На меня накатило вдохновение, я вытащил из моего чемодана едва не забытую мной дома губную помаду, понатыкал себе на лицо красных точек, завернулся в оба наших шерстяных пальто и забился в угол, надеясь, что моя природная румяность в кои-то веки окажет мне услугу, создав иллюзию высокой температуры. Когда же мгновение спустя дверь со стуком распахнулась и в купе ввалился молодой дезертир, я страдальчески застонал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу