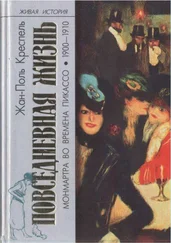Назавтра я получил записку на печатном бланке «Замка Вайсенштайн» — Герман писал, что знакомство со мной доставило ему огромное удовольствие, что он надеется в ближайшем будущем снова увидеть меня. Ничего кроме учтивости и даже обаяния в записке не было, и тем не менее она нагнала на меня такой безотчетный страх, что я не смог заставить себя ответить на нее.
В следующие несколько месяцев он заблаговременно извещал меня о каждой его деловой поездке в Париж, о желании увидеться со мной, а я самым искренним образом уклонялся от этих встреч. Возможно, я чувствовал себя решительно недостойным дара, которым норовила — или грозилась — оделить меня Судьба. Я снова и снова возвращался к опустошавшей мою душу мысли: прежде чем и если что-то сможет связать нас, я должен измениться. Я не мог предстать перед Германом Тиме таким, каким был.
В августе 1929-го, под вечер одного знойного дня, консьерж вручил мне телеграмму: «Diaghilev est mort се matin. Lifar» [124] «Утром умер Дягилев. Лифарь» (фр.).
.
Подробности я узнал позднее: о том, как после неудачи, которой обернулось его путешествие с Маркевичем, великий человек поехал в Венецию; как Лифарь и Кохно ухаживали за ним до его последнего дня; как перед самым финальным падением занавеса к нему приехали Коко Шанель и Мизиа Серт. Сергей Павлович Дягилев, которому цыганка когда-то давно предсказала смерть на воде, испустил последний вздох в городе, который называют Serenissima — Царица Морей.
Прочитав телеграмму, я вспомнил вечер 1928 года, когда сразу после триумфальной премьеры «Аполлона Мусагета» Дягилев упал на колени перед еще не снявшим тунику Лифарем. Он торжественно поцеловал голые бедра Лифаря и сказал: «Запомни это навсегда. Я целую ноги танцора второй раз в моей жизни. Первыми были ноги Нижинского — после “Le Spectre de la Rose”! [125] «Призрак розы» (фр.).
» Вспомнил я и Лифаря, радостного, гордого и немного смущенного, ибо он любил Дягилева, но любовь его ни в чем не была соизмерима с пронзительной, бездонной, немыслимой любовью Дягилева к нему.
Смерть Дягилева ознаменовала конец целой эпохи — до крушения финансовых рынков оставалось меньше двух месяцев. Эффект этого краха был, как эффект появления злодейки Карабосс на крестинах Авроры, мгновенным. Американцы исчезли за одну ночь, поспешив вернуться в свою сильно пострадавшую республику. В зависевших от их щедрости магазинах, кафе, ресторанах, отелях погас свет. В клубах, которым удалось уцелеть ( «Le Boeuf» в их число не вошел), джаз впал в меланхолию. Гертруда и Алиса изгнали из дома 27 по рю де Флёрюс немногих сохранившихся от их зачарованного круга молодых людей, выключили свет и покинули Париж ради деревни Билиньи. Лифарь, Кохно и Баланчин изо всех сил старались удержать «Русский балет» на плаву, однако создавалось впечатление, что труппа его совсем пала духом.
Единственным, казалось, кто нажился на случившемся, был Шанхай Джимми. «Вам и не вообразить, какие у меня появились клиенты, — говорил он мне с обычной его резкостью. — Деловые люди, адвокаты, банкиры сбегаются ко мне, рассчитывая смягчить свалившееся на них — и поделом — несчастье. Время повернулось к нам своей духовной стороной. И отлично».
Особенно безутешен был Кокто. «Все пошло прахом, — говорил он. — Как далеко ни заглядываю я, передо мной простирается лишь серый, безликий ландшафт, в котором нет ни грана красоты, нежности, доброты. Где-то посреди этого запустения непременно должно укрываться новое искусство, но я пока не могу найти его в себе. Я изобрел двадцатые годы. Должен ли я изобретать теперь и тридцатые?»
Мир рушился, а брат мой процветал. Какая-то владевшая им ненасытимая жажда рождала стихи, рассказы, романы с быстротой, прежде невиданной. Даже я, избегавший эмигрантских литературных кругов, слышал, как его имя почтительно произносят в книжных магазинах и кафе, он стал надеждой эмиграции, фигурой, которой предстояло спасти ее от краха, тщеты, забвения, даже от нее самой. Мой брат! Во всех этих горячечных разговорах я едва узнавал его. И каждое новое произведение доставляло ему и новых влиятельных поклонников: Фондаминского, Алданова, Ходасевича, Берберову.
Осенью 1929-го в «Современных записках» Фондаминского [126] И. И. Фондаминский был лишь одним из редакторов «Современных записок».
начала появляться выпусками «Защита Лужина». Этот роман я читал с неослабевавшим благоговением. Как чудесно управляет Сирин интригой; как легко создает он ощущение нечаянно подслушанных жизней — напористые голоса в соседних комнатах, хлопнувшая где-то дверь, — подтверждая мучительную догадку о том, что настоящая повесть нашей жизни, ее роковой рисунок всегда остается тайной, которую участвующим в ней людям удается лишь смутно угадывать. И как поразительна череда счастливых промахов, почти попаданий судьбы — непонятное наслаждение мастерством фокусника, причудливое поведение чисел, головоломная прихотливость складных картинок, — череда, которая постепенно подводит юного Лужина, нашего странного, но симпатичного героя, к роковой гармонии шахмат. В этом романе полностью осуществилось все, что обещал мой изумительный, способный свести человека с ума брат. «Защита Лужина» дышала той жизнью, нежностью, сложностью и — да, потусторонней красотой, — которые были с таким неистовством вымараны из его предыдущего романа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу