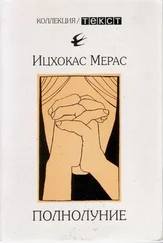— Хорошо…
Так говорит отец и задумчиво гладит волосы Эстер. Глаза у него глубокие, поблекшие и множество мелких складок вокруг. Я уже сам не знаю, стар ли, нет ли мой отец, но морщин вокруг его глаз очень много.
Я знал, что только мой отец может нам помочь. Ему известны разные способы выбраться из гетто так, чтобы никто не заметил, спрятаться так, чтоб никто не нашел тебя. Он знает все гетто как свои пять пальцев, исколотых портновской иглой, я даже удивляюсь, что человек может знать так много. Наверное, лишь тогда начинаешь столько знать, когда к глазам сбегаются строчки морщин.
— Хорошо… — повторяет отец. — Один день ты не выйдешь на работу. Я скажу, что ты болен. Но договорились — только день.
— Достаточно, — говорю я отцу, — нам хватит даже полдня, увидишь.
Отец печально улыбается.
— Будет ли кто счастливее меня, когда я снова увижу вас всех? Как вы думаете?
Он смотрит попеременно на нас обоих, то на Эстер, то на меня. Я знаю, о чем он думает, и опускаю глаза. Зачем это, отец? Зачем объяснять, Авраам Липман…
— Завтра утром, — говорит отец, — в гетто придет военный грузовик за дровами. Шофер вывезет вас за город, а там — ищите. Обратно будете добираться своим ходом. Не забудьте спороть звезды. И иголку с ниткой не забудьте. Только берегите себя, ради Бога…
Отец еще долго объясняет, как нам держаться, где искать и когда идти обратно.
Мы знаем, где искать. Я только одного не понимаю.
— Грузовик действительно военный? — спрашиваю я.
— Военный.
— А шофер?
— Тоже военный.
— Немец?
— Немец, а что?
— Не понимаю, почему он должен нас везти…
— Хм! — усмехается отец. — Разве немец не может водить машину?
— Н-н-не-е…
— Видишь ли, — говорит отец, — немец-то он немец, только иной немножко. Теперь ты доволен?
— Гм… Доволен.
Наконец и утро.
Приезжает крытый армейский грузовик.
Его нагружают сухими дровами и оставляют для нас крохотную щель. Мы забиваемся туда. Немец, злой и хмурый, с лязгом захлопывает дверцы. Даже не разговаривает с нами.
В кузове темно. Тихо, мотор еще не заработал. Мы слышим собственное дыхание, поленья пахнут смолой и давят со всех сторон, а по временам откуда-то издалека доносится сквозь тонкий борт чей-то голос.
Включается мотор, машину начинает трясти.
Едем!
Мы всем телом ощущаем неровные булыжники мостовой и дрова, которые напирают со всех сторон. Мы не замечаем, что сидим прижавшись, плечо к плечу, щека к щеке.
О чем сейчас думает Эстер?
Я думаю о том, что страшно ехать в полной тьме, сидя в немецком грузовике, ощущая всем телом булыжники мостовой, когда шофер-немец и поленья давят со всех сторон, летят на голову, а дверцы машины заперты снаружи. Мы едем и молчим. Молчим, вероятно, потому, что нету Янека и надо его найти. Если бы не это, я ни за что на свете не полез бы в темный, наглухо закрытый немецкий автомобиль, где своими ушами слышишь, как снаружи с лязгом запирают дверцы, скрещивая металл с металлом.
— Эстер, о чем ты думаешь?
— Я рада… Мы едем, а Янек и знать не знает, что мы на пути к нему.
Мне стыдно.
Эстер думает о Янеке.
Почему же я прежде всего подумал о кромешной тьме, а потом уже о нем?
Янек был прав, когда сказал мне:
«Не сердись, Изя… Ты не сердишься? Не сердись, но я никак не могу найти Мейку. Ты — хороший товарищ, но Мейки все равно нет…»
Машина останавливается.
Скрежещет железный засов.
— Выходите, — говорит солдат по-немецки.
Мы вылезаем. Немец ждет. Он мог бы захлопнуть дверцы, сесть в машину и ехать дальше.
Что он стоит? Чего он ждет?
— Мы уже за городом, — продолжает немец. — В городе точно нету вашего Янека. Если найдется, то здесь. Видите тот лес? Дальше не заходить ни в коем случае. Там Янека тоже нет. Там начинаются Понары.
— Хорошо, — отвечаю я. — Мы не пойдем туда. Янека там нет, он должен быть где-то здесь, поблизости.
Солдат все еще стоит.
— Обратно пойдете той же дорогой, — говорит он, — а потом прямо по улице. У костела свернете вправо, затем четвертая улица налево. Спуститесь вниз и ждите в подворотне. Этой улицей ваши возвращаются с работы, и там уже близко гетто.
— Я знаю.
Немец удовлетворенно кивает.
Он все еще стоит, не спешит захлопнуть дверцы, сесть в кабину и уехать.
Мне как-то неловко разговаривать с ним. Со мною говорит только один немец, Шогер, когда мы играем в шахматы. Мне трудно освоиться с тем, что передо мной совсем иной немец и разговор иной.
Он уже немолод, этот немец. Большие руки, грубые пальцы. Он небрит, на щеках, подбородке и под носом редкая желтая щетина. Глаза серые, усталые и множество морщинок вокруг, только его морщины не такие, как у моего отца. Он, конечно, моложе моего Авраама Липмана.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу