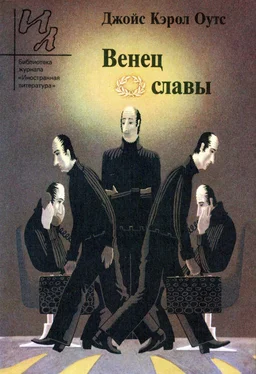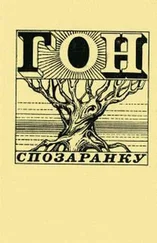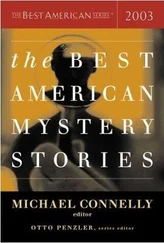Это бы еще ладно, но колледж назначил на ту же неделю своим «особо почетным гостем» поэтессу Анну Доминик; с ней Маррей встречался всего несколько раз, но успел проникнуться к ней неприязнью. Орбах — тот хоть поэт по крайней мере, а Анна Доминик — нет. Не поэтесса она, а крикунья, фельетончики в столбик расписывает, а молода, если вдуматься, на удивление — при ее известности!.. Ведь ей и тридцати нет. Маррей нервно долил в стакан еще немного виски. Не то чтобы он боялся этой самой Доминиканны, но все-таки нехорошо, если она читала его рецензию на одну ее книжонку (хотя могла ли эта рецензия от нее укрыться, ведь напечатана не где-нибудь, а в «Нью-Йорк таймс»!)… Сам-то он едва ли сейчас припомнит ни что понаписал там, ни даже точное название пресловутой книжки: это была обзорная рецензия на целую обойму книжиц, каждую из которых дочитать до конца просто никакого времени не хватило бы… «Выкрики»? «Шепоты»? Какое-то типично безвкусное истерическое название. Но еще хуже, что в тот же вечер в 8 часов в зале научного корпуса состоится нечто под названием «Лекция памяти Вильяма Рэндолфа Херста», докладчик Хоаким Майер — «выдающийся критик и литератор с мировым именем», и вот тут-то Маррея обуял неподдельный ужас: мало того, что когда-то в незапамятные времена он отбил у Хоакима (с возвратом, правда) одну девчонку, родсовскую стипендиатку, но к тому же на последнем курсе Колумбийского университета они вдвоем издавали литературный журнал. Много лет уже они друг друга опасались и старались не встречаться, и вот поди ж ты — выступление Майера под названием «Поэзия: что это было?».
Хотя у него оставалось всего несколько минут, Маррей пошел принять краткий холодный душ. Этому ритуалу его научила Розалинда: успокоение через шок, полное изгнание эго.
Минута в минуту в двенадцать тридцать за ним зашли, но не Фуллер на этот раз, а молодая женщина и еще некто — оба, как они сообщили, сотрудники «Лаборатории основ писательского мастерства», ассистенты с одной кафедры. За руль села женщина, возбужденно тараторя. Рычагом переключения передач «фольксвагена» она орудовала с лихостью, от которой Маррей, машину не водивший вовсе, пришел в очень нервное состояние. Стиснув ручку портфеля, из вежливости вынужденный то и дело встречать глазами дружелюбный взгляд водительницы и кивать, он уж и тому был рад, что за всей этой трескотней ему не дают слова вставить, и беспокоило только, не вздумалось бы ей, как это водится у множества таких же молоденьких взбалмошных интеллектуалок, изобилующих в академической среде, провоцировать его на некие неподобающие шаги. Надо быть осмотрительным. Ему не дано апломба Ричи Джеймса, разбитного флоридского поэта, которому безразлично, как о нем судят и рядят и как, быть может, над ним потешаются — даже при студентах поминают — всякие дамы, которых он дарил своим вниманием во время концертных турне; не сподобился он и леденящего целомудрия обеспеченной репутации С. У. Мартина, такого рассудочного, так внушительно и педантично отстраненного — куда там провоцировать, разве только на благосклонность к профессорской лести да на то, чтоб подписал книжку-другую. А он что… Он Маррей Лихт.
Маррей Лихт. Да он и сам не всегда знает, что это значит. В самом деле, что? От друзей Маррей слышал, что своим поведением он озадачивает женщин, поскольку на первый взгляд производит впечатление яростного волокиты и после двух-трех рюмок становится — по их отзывам — совершенным душкой, однако в действительности Маррей за всю свою сознательную жизнь увлекался не более чем пятью-шестью женщинами, но этих он преследовал — именно преследовал — самозабвенно, героически. Все эти женщины, включая Розалинду, поначалу бывали к нему безразличны, держались уклончиво, даже слегка враждебно. В итоге он добивался от них ответного чувства, но появлялось оно как белый флаг, поднятый побежденным противником. Принимать всерьез женщину, которая им интересуется, он был не способен, и уж конечно не переносил тех, которые заявляли, что в восторге от его стихов. И при всем том как ни старайся, но о нем расползались сплетни. Полные передержек, да и просто несуразицы, но поди в них опровергни что-нибудь! Всякое сколько-нибудь пригодное в качестве опоры ощущение того, как Лихт выглядит со стороны, кем или чем его считают, он утратил много лет назад, ну кроме разве что чувства легкой досады на мнение критиков: когда-то (боже, сколько десятилетий назад это было!) они провозглашали его гением, в духе Рильке; то были действительно серьезные, умные критики, чьи суждения Маррей признавал верными. Да, он понимает, что как общественно значимая фигура он на сегодняшний день в определенном смысле не состоялся, нутром чувствует, что с его поэзией, с ним самим что-то не так, неясно только — и никогда ясно не было, — в какой степени такая его самооценка разделяется читающей публикой. Несмотря на самоуверенную манеру держаться, Маррей был вполне критически к себе настроен — не лицемерил и не был падок на лесть, но и обрывать эту женщину (юная особа рядом с ним все говорила и говорила, вулканически извергая потоки славословий), сказать: «Заткнись! Оставь меня в покое! Прекрати издевательство!..» — тоже ведь неудобно.
Читать дальше