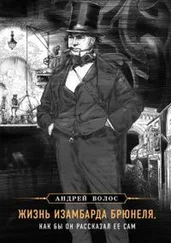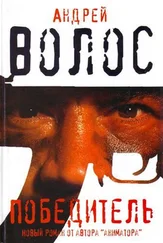Кто его знает, может быть, именно та дурацкая история с часами вселила в Алымова уверенность, что Артем — человек совершенно иного сорта, при случае за него и глотку порвать можно.
Какими они тогда еще фразами успели перекинуться — затерялось во мраке времен. Однако когда Артем вернулся из учебки, Алымов оказался единственным прежде знакомым в целом полку, потому и встретились они как родные. «А часы где?» — спросил Артем. «Часы? — осклабился Алымов. — Да ты чо, опомнился!.. Жизнь-то полосатая. Проиграл».
Потом служили в одном взводе, спали бок о бок. В целом дружба, конечно же, боевая, то есть временная, суетливая и поверхностная, в какой до рассказов о сокровенном дело не доходит. То есть нет, со стороны Алымова случалось, но лучше бы он помалкивал, потому что Артема от них лишний раз коробило. Сокровенное непременно оказывалось какой-нибудь дрянью: то как в седьмом классе с дружками встретили под вечер в леске за поселком девку, она все орала, что целая, а они не поверили и правильно сделали, что не поверили: доверяй да проверяй; то как в восьмом пошли в поход классом и там в палатке все с одной сговорчивой, а потом физкультурник, сука рваная, порол их по очереди мокрой авоськой; то как привезли чемодан с обувью из РОНО вроде как для малоимущих, а они стырили через окошко подсобки, пока училки не разобрали: думали продать, а корочки — слышь! не, ну чо ты?! слышь? — оказались почему-то все на левую ногу.
Бисеринки росы еще кое-где серебрились. Но солнце быстро слизывало влагу, и камни превращались в прежние где серые, где бурые, но одинаково дикие и выгорелые глыбы.
От реки доносился едва слышный гул. Сама она лежала длинным, неровно обрезанным лоскутом поблескивающей саржи.
Птицы уже робко тенькали, а кузнецы и цикады еще не принялись за свою утомительно звонкую работу, и все вокруг лежало в блаженном расслаблении тихого раннего часа: молчали дальние вершины, ветер не тревожил листву редких кустов на бурых склонах и группа боевых машин, рассевшаяся на террасах противоположного берега, будто стая серо-зеленых, сложивших крылья птеродактилей (каждый ящер тянул вперед клювы своих стволов), тоже помалкивала.
— Далековато забрались, — заметил Прямчуков.
— За них не переживай, — успокоил Артем. — Ладно, двигай вон к тем камушкам. Осуществляй наблюдение. Если что, шумни.
Прямчуков кивнул и, пригнувшись, бесшумно удалился.
Между тем время шло к восьмому часу. День будет жаркий. То есть такой же, как все. И вчера, и позавчера, и сегодня. Будто солдатский строй: все такие, и он такой — ясный, знойный, безоблачный.
А ведь какие раньше, на гражданке, плыли в небе облака!.. Молочно-белые, пышные: в отчетливой тишине громоздили башни, уступы… надували великанские щеки, усмехались, выглядывая друг из-за друга… одной стороной золотятся на солнце, другой хмурятся…
Здесь, пожалуй, ночи интересней. Гаснет тусклая эмаль выжелченной сини, и тут же небо — словно выковали из серебра: позванивают звезды в похолодевшем воздухе…
Машинально перевел взгляд.
Черный жилистый муравей вприпрыжку бежал по камню, переметнулся на другой, миновал и его, вот уже на третьем, оттуда скакнул на проплешину — и тут же неудержимо съехал в крутую воронку песка глубиной примерно в спичку.
Суматошно заметался, пытаясь вернуться назад, где только что все было так хорошо и гладко — и солнце, и зелень, и шум реки, и все дороги открыты, хоть на запад, хоть на восток, — но бесполезным карабканьем только вызывал новые обвалы.
А из самого низа, из устья воронки, уже летели в него точные броски других песчинок — швырк! швырк! Широко расставленные челюсти хозяина сооружения почти не показывались, он сидел тишком где-то в глубине, поджидая добычу. И дождался… а вот и схватил. Муравей, махнув напоследок усиками, утонул в песке.
Муравьиный лев. Точно прозвали. Этого бедолагу сожрет, воронку поправит, постреляв песком на скаты, чтобы стали круче, — и снова затаится, дожидаясь следующего.
И почему-то вдруг представилось, что все они здесь бьются в такой же смертельной воронке. Только она еще и несет, вращается, вздымает ввысь украшенные пеной края, а их самих бешено кружит, засасывая, на самом дне: и его, и Алымова, и Прямчукова, и Каргальца — и всех, всех! И они друг за другом, пытаясь напоследок схватиться за воздух, за пену, за что угодно, только бы удержаться — и быть, быть! Распялив рты воплем, гаснущим в реве этого гибельного вращения, взмахивая напоследок автоматом или просто рукой: один за другим, с дико вытаращенными глазами, как мураши — оп!..
Читать дальше