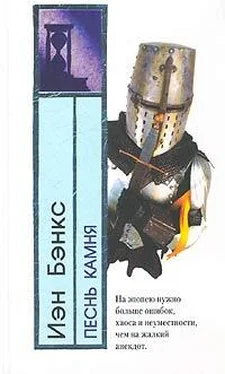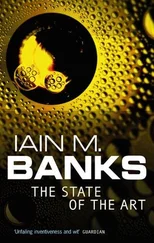Фургон опустошенного грузовика приносит новые плоды: снаряжение, какое-то оборудование, провиант и несколько ящиков вина, по большей части — уцелевшие.
На тропе появляется джип с фермы; его появление возвещается криком часового, которого лейтенант выставила на склоне. Солдаты в джипе вопят, хохочут, хлопают по спинам тех, кто брал рудник, рассказывают о своей перестрелке: устроили другому грузовику сюрприз — чуть дальше по тропе сюда. Рассказывают байки, обмениваются шутливыми выпадами, и в воздухе витает облегчение, очевидное и острое, как аромат сосен. Они убили десятка два человек, если не больше. А взамен — одно легкое ранение, уже промытое и перевязанное, кость не задета.
Что-то движется у меня под ногами. Опускаю взгляд и вижу, что у ног тяжело и неловко, словно еще один раненый солдат, ползет пчела, слепо карабкается на холодный гравий, в своем толстом мохнатом мундире умирая под натиском наступивших холодов.
Снова крик со склона, и снизу ревет мотор. Мигая фарами, к нам спешит грузовик с фермы. Он громыхает прямо на меня; приходится отступить с тропы, и он с рычанием катится мимо. Шатко разворачивается посреди рудника и скрежещет тормозами. Я смотрю туда, где проехали колеса, ожидая… но пчела, невредимая, ползет дальше.
Вскоре мы уезжаем; грузовик везет пушку, трофеи и нас, а джип едет впереди и тащит тяжелый прицеп с боеприпасами. На ферме второй грузовик принимает бремя прицепа, а фермеру беззаботно сообщают, где он найдет своих лошадей. Он мрачен, однако у него хватает ума придержать язык.
Лейтенант снова садится в джип; меня оставляют позади во втором грузовике с оживленными солдатами; мне в руку суют бутылку вина и предлагают сигарету; мы трясемся по дороге в густеющую тьму под деревьями.
И последний акт — как раз перед выездом на первое прямое шоссе; удар по тормозам, впереди стрельба, и все нащупывают ружья и каски. Затем крики — все улажено.
То был пикап с товарищами убитых на руднике, их расстреляли, едва они успели окликнуть приближающиеся фары. Отправлены на тот свет, и тоже без вреда для людей лейтенанта, лишь один сумел выскочить из продырявленной пулями машины и умер, ничком упав на дорогу. Загоревшийся пикап сдвинут на обочину первым грузовиком, замер на боку в задушенной сорняками канаве под деревьями и трещит разрывами патронов. Мы оставляем его пылать в ночи и с песнями отчаливаем.
Мы едем домой по длинному прямому шоссе; некоторое время я смотрю на далекое пламя. Пылающий пикап, кусты, нависшие деревья и все вокруг, что обречено погибнуть в их жару, расцветают погребальным костром, что растет и не растет; дрожащий, вздымающийся пожар колотит в ночное небо и расползается, а мы умаляем его, уезжая все дальше, и вся эта неустойчивая груда кажется неподвижной, а яростно неповторимое пожирание — на какой-то миг устойчивым.
Но потом из холодной тряски открытого кузова, что дико раскачивается на поворотах меж давно брошенными машинами, я смотрю, как внезапно уступает все, что мы отдали звездному ночному взору, и ослепительные языки пламени увядают.
Я не пою, не кричу, не пью и не смеюсь с веселой шайкой, с которой сижу на боковой скамье грузовика. Нет, я жду засады, крушения или кульминации, которые не наступают; в шумном ночестоянии мы сворачиваем на подъездную аллею, и я ощущаю гору замка с изумлением и тоской, определенно с разочарованием.
Ладонь охватит череп плотно, затянут кости кость покровом. Говоря это, схватываем то.
В каждом из нас вселенная, тотальность бытия объята всем, что есть у нас и что придает ей смысл; серая сморщенная грибная масса зачерпнута костлявой чашкой, что не больше малюсенького котелка (людям лейтенанта заглянуть бы в ребристую и жирную черноту жестяных касок — увидеть космос). В самые солипсические свои моменты я допускаю, что мы в этом сплющенном шаре не только все испытываем — мы же все в нем и создаем. Может, сами придумываем себе судьбы, и значит, в известном смысле, заслужили все, что случается с нами, ибо нам не хватило ума придумать что-то получше.
Поэтому, когда мы, невзирая на мое предощущение гибели, несокрушенными, не попавшись в засаду, возвращаемся в замок и находим его крепким и цельным и внутри него все в порядке, ужас мой исчезает дымкой на ветру, и меня заполняет странный триумф и даже, напротив, оправдание. Как всегда, пребывая в этом жгуче самоотносимом настроении, я решаю, что какая-то бдительная сила воли вечно толкает мою жизнь по безопасному и правильному пути, и теперь она восторжествовала над полуощутимыми причудами настоящего, что могли привести к опасности. Может, я охранил лейтенанта и ее людей от катастрофы, что обрушилась бы на них без меня; может, я и впрямь был их проводником — в большей степени, чем они думают.
Читать дальше