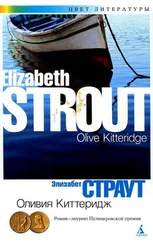И тут с хоров раздались звуки органа. Дорис Остин заиграла гимн «Пребудь со мной», и Тайлер повернулся посмотреть на хоры, потом снова обратил лицо к прихожанам. Они стояли. Некоторые из них пели, и здесь же был — Чарли Остин, который шел к нему по проходу, Чарли, глядевший прямо на него, слегка кивая рыжей головой, словно желая сказать, мол, все хорошо. И Чарли взял его под руку, помог пройти через алтарную дверь, помог спуститься по лестнице.
В кабинете священника царил удивительный беспорядок. Книги на полке стояли под разными углами, некоторые были просто навалены друг на друга, из многих торчали закладки. Чарли терпеть не мог, когда книги так выглядели. Крышку письменного стола вообще было не разглядеть под разложенными на нем бумагами. Маленькое оконце глядело прямо на укрытую снегом землю. Отсюда, снизу, можно было даже дерево увидеть. Чарли снова посмотрел на священника. Он не думал, что ему когда-нибудь захочется увидеть такое, ожидал, что из вежливости отведет глаза. Но сейчас ему почему-то казалось: нет ничего постыдного в том, что он открыто глядит на происходящее перед ним. Тайлер плакал, не скрываясь и почти беззвучно. Глаза его, когда он смотрел на Чарли, были очень синими. На его лице сохранялось выражение какого-то наивного замешательства, и Чарли навсегда запомнил, как слезы словно выпрыгивали из глаз этого большого человека — маленькие капли прозрачной воды — и какими синими все это время оставались его глаза. Человек плакал и в то же время улыбался Чарли. Это была странная улыбка, в ней ощущалась какая-то детская прямота, выражавшая дружелюбие при всем том, что в этот момент происходило. Время от времени Тайлер приподнимал руку, словно желая что-то сказать, но потом она снова падала к нему на колени.
А Чарли только кивал. И задавался вопросом: что же запомнит Тайлер об этих минутах? Он положил руку Тайлеру на плечо, окутанное складками черного облачения, которое священник так и не успел снять.
— Слушай, — сказал Чарли.
Тайлер кивнул, улыбаясь. Его глаза, большие и синие, купались в слезах.
— Слушай, — снова сказал Чарли.
Но на самом деле он не знал, как продолжить. Он подумал, что если бы сам сделал что-то столь же обнаженно и публично, как только что сделал Тайлер, то от стыда решил бы покончить с собой. Ему не хотелось, чтобы Тайлер почувствовал то же самое. И Чарли сказал:
— Тебе незачем волноваться, Тайлер.
— Как это? — наивно спросил Тайлер.
Он сидел, сложив руки на коленях, не делая даже попытки отереть лицо. Когда Чарли не ответил, он сказал:
— Не знаю, могу ли я оставаться священником, Чарли. Думаю, я не совсем здоров.
— Ты просто устал. Нет никакого позора в том, что человек устал.
— Да?
— Да.
Тайлер устремил взгляд своих синих глаз на окно. Потом спросил:
— Ты ведь и сам был недавно в какой-то беде, правда, Чарли? Ты пережил трудное время.
— У меня все в порядке. Как ты думаешь, сможешь сделать мне одолжение и высморкаться?
— Ох, ну конечно.
На миг Чарли стало страшно: вдруг ему придется достать платок и поднести его к носу священника, будто тот — ребенок. Однако Тайлер пошарил под рясой, извлек платок и отер лицо.
— Скажи-ка, — обратился к Чарли священник, в его широко открытых синих глазах еще блестели слезы, — Дорис сыграла мой любимый гимн, когда со мной там, наверху, случилась беда. Красиво, правда? Красиво, как она это сделала.
Чарли кивнул.
Послышался резкий стук в дверь, и Чарли поднялся открыть ее. Там стояла Маргарет Кэски.
— Я забираю его домой немедленно, — проговорила она. — Дети ждут в машине. Я не могу так долго оставлять Джинни одну.
— Конечно, — ответил Чарли, отступая назад.
Машину вела его мать, дети сидели сзади. Никто не произносил ни слова. Тайлер сидел, глубоко засунув руки в карманы пальто, из глаз его, то из одного, то из другого, время от времени скатывалась слеза, так что широкий размах голубого неба, казалось, мерцает, как и обнаженные деревья, растущие у берега реки, и речные закраины, укутанные одеялами замерзшего снега, испещренного голубыми тенями. Бессильное послеполуденное солнце роняло мягкий свет на поля, мимо которых они проезжали; заледеневшее покрывало осевшего снега излучало мягкое сияние, почти повсюду тянувшееся до самого горизонта и лишь кое-где — до ближнего амбара.
Кэтрин, у которой от утреннего ощущения счастья в воображении рисовалась картинка, как она кувыркается от радости по пологим склонам заросших травою холмов, теперь сидела, крепко держа в руках ладошку Джинни и наблюдая за отцом, хотя оттуда, где она сидела, позади бабушки, лицо его было ей видно только отчасти. Никогда, никогда в своей жизни Кэтрин не видела и не знала, что взрослый мужчина может плакать. Это было так же поразительно, как если бы дерево вдруг заговорило. И Кэтрин чувствовала, как у нее внутри возникают и колются маленькие иголочки ужаса.
Читать дальше