– Это значит, что ты предпочла бы… не покидать своего дома в Лондоне?
– Нет. Вся моя жизнь устремлена была сюда! С тех пор как стало отсчитываться моё время. И когда я отсюда уеду, эти дни будут для меня срединной точкой, к которой всё шло, и от которой всё пойдёт дальше. Но теперь, любовь моя, мы здесь, мы здесь в нашем сейчас , и все прочие времена пусть текут себе где-то ещё.
– Поэтичная, но не слишком уютная доктрина…
– Что делать. Ты ведь знаешь, точно так же как я, что хорошая поэзия вообще не бывает уютной. Я хочу держать тебя крепко, это наша ночь, ещё только самая первая, а значит, бесконечная почти…
Он чувствовал на своём плече её щёку, твёрдую и мокрую, и представил вдруг весь её череп, полный жизни, эту живую кость, с питающими жилками, тончайшими трубочками, по которым струится голубая кровь, с недоступными ему мыслями, пробегающими в невидимых полостях и желудочках мозга.
– Ты со мной в безопасности.
– В том-то и дело, я вовсе не в безопасности, с тобой. Но у меня нет желанья быть где-то ещё.
Утром, моясь, он обнаружил у себя между ног следы крови. У него было ночью ощущение, что она не искушена в самом последнем, и вот – истинное и древнее тому доказательство. Он стоял, с губкой в руке, размышлял о своей возлюбленной озадаченно. Такая тонкость в утехах, такая сведущесть в страсти – и девственница! Объяснений могло быть несколько, из которых самое явное возбуждало в нём лёгкое отвращение и вместе – если задуматься повнимательнее – интерес. Спросить же он никогда не отважится. Показать проницательность, или даже простое любопытство – означало её потерять. Тут же, навсегда. Он знал это, чувствовал. Что-то вроде Мелюзининого запрета тяготело над ним, хоть, в отличие от злосчастного Раймондина, пострадавшего за неразумное любопытство, он не связан был фантастическим сюжетом, обетом. Конечно, он желал бы знать о ней всё на свете – в том числе и это , – но к чему любопытничать, сказал он себе, если тайна не предназначена для тебя? Даже той ночной, столь предательски белой сорочки, он больше никогда не увидел – она, верно, запрятала её куда-нибудь далеко, в свой саквояж.
Это были погожие, хорошие дни. Она помогала ему обрабатывать подопытные организмы, и в погоне за ними неустрашимо карабкалась по отрогам прибрежных скал. Она пела как пели сирены у Гёте, или как гомеровские сирены, с тех прибрежных камней Бриггской приливной заводи, с коих – гласила местная молва – смыло волною в море миссис Пибоди со всем семейством. Безбоязненно она шагала по топким лугам, покинув свою клетку-кринолин и половину своих юбок, и ветер развевал её бледные волосы. Сидя у открытого торфяного очага, она сосредоточенно смотрела, как некая старуха пекла сдобные пышки на большой сковородке с ручкой; она мало разговаривала с людьми незнакомыми, это он, Падуб, умел запросто заводить с ними беседу, располагать к себе, вытягивать всякого рода сведения, это он изучал здешний люд. Однажды, после того как он продержал деревенского жителя полчаса за разговором, выпытывая разные подробности о земледелии, основанном на травопале, и о нарезке торфа, она изрекла:
– Рандольф Падуб, ты влюблён во весь род человеческий.
– Я влюблён в тебя. И эта моя любовь перекидывается на других существ, что схожи с тобой хотя бы отдалённо. То есть, в общем-то, на всех созданий, ибо все мы – я в это свято верю – частички некоего божественного организма. Этот организм дышит единым дыханьем; отмирая в одном месте, возрождается в другом; и пребудет вечно. Его таинственное совершенство сейчас воплотилось в тебе. Ты – средоточие жизни.
– Не может быть. Я – «ознобуша», как изволила выразиться давеча утром миссис Кэммиш, когда я закуталась в шаль. Средоточие жизни – это ты. Ты стоишь посередине и втягиваешь в себя всё живое. Ты бросаешь вокруг взор, и под твоим взором всё скучное, пресное, обыденное – начинает сиять. Ты просишь эти дивные кусочки чужой жизни остаться с тобой, а они уходят, но само их исчезновенье тоже являет для тебя не меньший интерес. Я люблю в тебе это свойство. Но я и страшусь его. Мне нужна тишина, покой, отсутствие событий. Я начинаю думать, что если долго останусь в твоём жгучем свете, я поблекну, стану светиться тускло.
Потом – когда всё уже кончилось, когда время их вышло, – он почему-то чаще всего вспоминал один день, проведённый в месте, именуемом Лукавое Логово; они туда отправились, потому что им понравилось название. Она вообще радовалась здешним, северным словам, названиям, таким необглаженным, неуступчивым, – они их собирали точно диковинные камешки или колючие морские организмы. Агглбарнби, страшноватое, не совсем понятное слово. Джаггер Хоу – Джаггеров Лог. Хаул Мор – Низина Вопля. В своих маленьких записных книжках она помечала, как звались мири, или стоячие камни, что попадались на низинах, – всё это были почему-то женские прозвища и названия: Толстушка Бетти, Камень Нэнси, Неволящая Сестра. («Ох и страшную же историю можно поведать – право, стоящую нескольких звонких гиней! – о Неволящей Сестре», – со вздохом сказала Кристабель.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
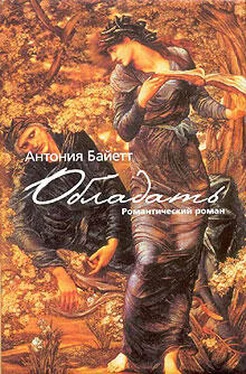

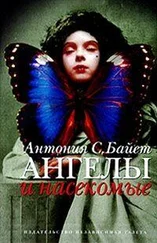

![Антония Байетт - Призраки и художники [сборник]](/books/31741/antoniya-bajett-prizraki-i-hudozhniki-sbornik-thumb.webp)
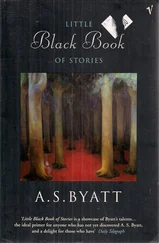
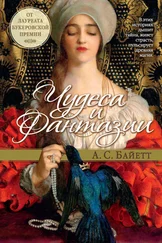

![Антония Байетт - Дева в саду [litres]](/books/384518/antoniya-bajett-deva-v-sadu-litres-thumb.webp)
![Антония Байетт - Обладать [litres]](/books/428981/antoniya-bajett-obladat-litres-thumb.webp)
