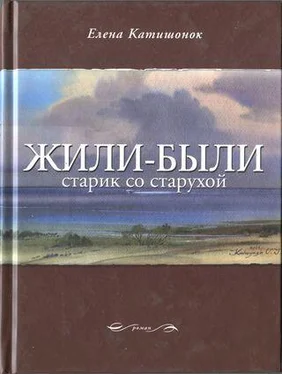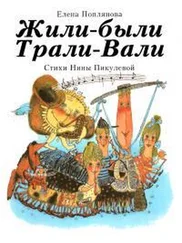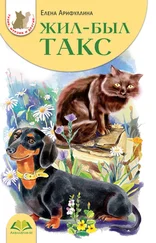Сейчас таких нет, сама себе говорила Матрена, бережно разворачивая, а потом вновь складывая убедительного размера dessous , некогда ослепительной белизны, а теперь цвета густых сливок. Пока она держала dessous распяленными, можно было успеть заметить сложную застежку на окаменевших пуговицах, швы исключительной добротности и две торчащие накрахмаленные дыни, отделанные кружевами, которых сейчас тоже днем с огнем не сыщешь, это уж будьте благонадежны. Кое-где на полотне — ибо этот материал невозможно оскорбить словом «ткань» — видны пятнышки ржавчины, словно веснушки. Не оставляет сомнений, кстати, что придумавший бессмертную фразу про пифагоровы штаны явно видывал такие доспехи на бельевой веревке, застывшие от крахмала и морозного ветра.
Следом она достала маленький кошелек, почти игрушечный в своей миниатюрности. От времени и безукоризненной службы замша приобрела мягкость фланели, но кнопочка не заржавела, и вообще он молодцом.
Две крестильные сорочки неправдоподобно маленького размера; ведь если правнучка уже переросла стол, под который пешком ходила, то легко представить, как глаза и руки забывают крохотность новорожденных, — до следующего младенца. Вот эта — Лари, светлого сыночка Иллариона; а эта — Лизочки, красавицы моей, Царствие им Небесное. Старуха начинает считать, сколько лет было бы им сейчас, и благоговейно откладывает легкий, как перышко, батист.
Уже совсем близко дно, и под пальцами перекатываются бусины морковного цвета: то бывшее коралловое ожерелье, которое Матрена собиралась перенизать, да как-то руки не дошли. Вот еще один запасной воротничок к мужниной рубашке и даже запонки к нему, словно два обойных гвоздика легли валетом. Совершенно ни к чему напоминать, что сейчас таких нет, да и понятия такого нет: «запонка для воротничка».
Для чего-то хранились носовые платки, изношенные до марлевого состояния, но и выбросить их было невозможно. Две катушки с нитками настолько тонкими, что они казались нарисованными, и снова бусины.
Фотографическая карточка, снятая на тридцатилетие их свадьбы, сохранилась очень хорошо. Старуха внимательно вглядывалась в лица тех, чьи имена уже были вписаны в ее поминальный листок; потом в живых. Вот брат Мефодий с густыми, пушистыми усами, но почему-то без воротничка — снял, должно быть; Акулина, младшая сестра, сидит между Павой и стариком, а сам он сердитый, будто тоже воротник тесный. Она даже рассмотрела на левой руке у мужа кольцо, которое подарила ему, кольцо-печатку с черным агатом, да он как снял его, так и не носил больше. Долго смотрела на себя, уже оплывающую, но с гладким, совсем не старым лицом, в любимом платье бежевого шелка, и эту цепку на шее, что сейчас у Тони, тоже очень любила. Дети, все пятеро, во втором ряду, а Тайка здесь меньше, чем Лелька сейчас, Матерь Божия!..
Она отложила карточку лицом вниз, чтобы не отвлекаться, и развернула маленький тугой рулончик розоватых ассигнаций, все по двадцать пять рублей. Это ж какие деньги были, фунт сметаны три копейки стоил! Мамынька вспомнила, как муж доставал из кармана толстую пачку, добросовестно плевал на пальцы и принимался считать, а потом, махнув рукой, скидывал сапоги и шел, чуть покачиваясь, отсыпаться — и от заказа, и от трактира. Она же, пересчитав деньги, скручивала их в такой вот рулончик и засовывала Ирочке в чулок, наказывая нигде, Боже сохрани, не задерживаться: прямо в банк и обратно, одна нога здесь, другая там, что дочка исправно и выполняла, а уж в банке управляющий ее знал, не извольте беспокоиться. Хорошо жили, слава тебе, Господи, это ж мирное время было, благодать…
Разгладила розовато-зеленые ассигнации и еще раз посмотрела на Александра Второго. А у нашего-то Мефодия усы попышней… и отложила; дальше, дальше.
То, что старуха искала, лежало на самом дне, завернутое в ломкую, тусклую бумагу, рядом с профсоюзным билетом зятя, который Феденьке выдали когда-то в филиале ада — или в самом аду, как угодно.
Разумеется, здесь перечислены не все старухины реликвии, а лишь те, которые она брала в руки и держала какое-то время; что-то брякало на самом дне, а кое-что достаточно было отодвинуть «в сторонку», как говорили в семье. Напрашивается вопрос: почему столь явно дорогие сердцу вещи хранились не в шкафу, не в комоде, не в буфете, наконец, а в жестянке от печенья, пусть и «Бон-Бон», да еще под шкафом, в пыли?
Строго говоря, пыли на коробке было немного: очевидно, Матрена частенько кряхтела, чтобы прикоснуться к своим сокровищам. В комоде же она своих вещей не держала по той простой причине, что отдала комод в распоряжение невестки Нади, как только та водворилась: ведь никакой мебели у нее с собой не было, да и комод, если быть точными, старик когда-то делал для молодоженов, к Андриной свадьбе. Буфет — опять-таки с тех пор, как Надя вселилась, — уже не принадлежал полностью старухе; оставался шкаф, или, как называла его по старинке мамынька, «шкап».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу