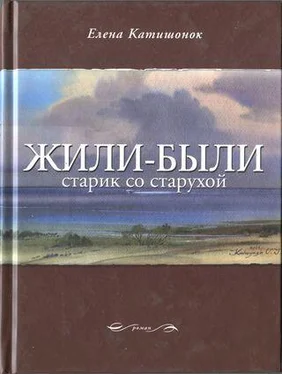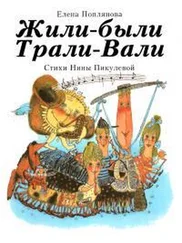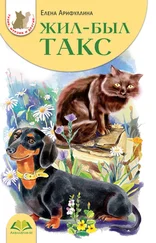Погодка и впрямь была на славу, будто календарь перелистать забыли: поредевшая, но яркая листва, безмятежное небо. Федор Федорович, еще не отошедший после вчерашнего, ругал себя, зачем согласился пойти, всегда был мямлей; оба закурили.
— Простите меня за вчерашний реприманд, Федор Федорович, — начал доктор, — но я ведь не самоубийца. Не только что обсуждать — название той больницы произносить по телефону отказываюсь! Что же до вашей просьбы, то ситуация аховая…
Они сидели вдвоем на самой высокой площадке, откуда была видна толстая башня старой крепости, театр и городской канал, и вполголоса говорили об «аховой ситуации», которая касалась не только тестевой язвы, но и ее тоже. Врач не просто подтвердил страшные и мерзкие слухи, ползущие по клинике, но и назвал много имен, которые не следовало упоминать в беседах с малознакомыми людьми, а лучше — ни с кем.
— В Медицинском институте уже было несколько чисток. Университет просто зачумлен; если вы хотите мое мнение, то его можно вообще закрыть — до лучших времен, если таковые наступят. Метут по всем больницам, Федор Федорович, да что я говорю: не метут, а прочесывают частым гребнем. Подождите, подождите: недолго осталось ждать, наша клиника давно под прицелом. Нас с вами не тронут; но с кем прикажете работать, с молодыми, простите за выражение, специалистами?! Так это не те специалисты, а те уже на Дальней периферии — в лучшем случае.
Он бросил окурок в урну, расстегнул плащ и снова вынул портсигар.
— Подумайте: ведь ни одного еврея нам не прислали из последнего выпуска, ни одного! А пациентов видели? — Помолчал в негодовании, потом наклонился к Феде и продолжал: — У него флюс, щеку до ключицы раздуло, а он к врачу не идет: боится. Сепсиса не боится, а доктора Берковича боится!.. Вы такое видели? Ну да, вы ведь больше в лаборатории, вы с протезами работаете, а до меня такие откровения из коридора доносятся… Люди стыд потеряли. Признаться, все под Богом ходим; сегодня их прочесывают, а где гарантия, что за нас не возьмутся?
— Кто же работать будет, — хмуро вставил Феденька, — зубы-то надо лечить?
— К цирюльникам пойдут! — запальчиво воскликнул доктор. — В средние века это была прерогатива цирюльников, кровь пускать да зубы рвать.
Их «прогулку» трудно даже было назвать беседой; скорее, пожалуй, это был горький монолог «защищенного национальностью», как он сам выразился, врача, который не мог вступиться за своих собратьев по цеху, такой защиты не имеющих. Заканчивая, он предостерегающе поднял палец: никакой Еврейской больницы, запомните; Третья городская, и никак иначе.
Обобщая, можно сказать, что Федор Федорович узнал то, что уже знал, и теперь нужно было только научиться жить с этим знанием. Да и можно ли было оставаться наивным после всего, что он знал о войне, можно ли было надеяться, что проклятый плакат умер? Проходя по вестибюлю, он никогда, никогда не смотрел на стены, но щеку непроизвольно тер, ибо бессмертность плаката утверждалась самим окаянным временем.
Ёлку Максимыч выбирал на базаре сам, без девочки, и елка оказалась такая пушистая и славная, что хоть куда, так что обидеться Лелька забыла. Освоилась елочка быстро, словно всегда жила здесь, у Иры в комнате. Старик долго возился с какими-то банками, взбалтывая, переливая и смешивая, но правнучке ничего не говорил. А на следующее утро елка оказалась волшебно разряженной: на ней висели сосновые и еловые шишки, да не простые, а золотые; вернее, половина светилась тусклым серебром, половина золотом. Максимыч, выравнивая кончики усов, охотно подтвердил, что эти диковинные шишки выросли за ночь, а то как же. Матрена послушала-послушала, сказала «тьфуй» и велела отправляться гулять.
Какая ни есть, а все же елочка, думал старик, оттирая скипидаром пальцы; вот пойдет к Тоне, там диво, так диво; а и дома пускай порадуется.
Оставшись одна, мамынька с кряхтеньем вытащила из-под шкафа объемную жестяную коробку от печенья «Бон-Бон», намного пережившую самое фабрику, смахнула пыль и аккуратно сняла крышку.
Можно сразу поручиться, что если бы в квартиру забрались воры и «обчистили», чего старуха боялась больше всего на свете и поэтому давно переправила к Тоне весь свой не только золотой, но и серебряный фонд, так вот, если бы воры посягнули на эту коробку, то с негодованием выкинули бы ее со всем содержимым в ближайшую помойку. Только для мамыньки невзрачная жестянка содержала нечто ценное.
Что же? Сейчас станет видно, хоть это отнюдь не означает, что станет понятно. Итак, крышка снята, и прямо в перевернутую ее прямоугольную емкость мамынькины пухлые руки вынули и положили половинку свадебной тиары, вернее, ее скелетик; однако нужно быть поистине матримониальным Кювье, чтобы угадать трогательные цветки флердоранжа в нескольких измятых лоскутках. Чья это была тиара, неужели старухина? Неужели здесь и хранилась символическая завязь тех тугих апельсинов, когда-то, еще на Тониной свадьбе, разгаданных стариком? Но, может быть, старуха берегла дочкин флердоранж? Едва ли: слишком ветхий, да и старомодный.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу