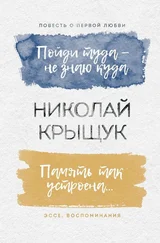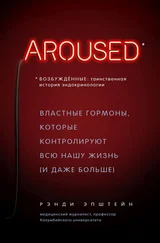Я понимал, конечно, что не Антипов, а я сам занимаюсь сейчас самообманом. Такое же ощущение, что вернулся из вымышленного мира в реальный, бывало после сна, и еще в молодости, после дня, проведенного в библиотеке. Эти миры долго не срастались. Реальный был не в пример проще и предлагал выкинуть вымыслы из головы. Взросление, как я теперь понимаю, и состояло в том, что между мирами обнаруживались тайные связи и общая интрига. Более того, самое характерное реальный мир норовил перенять у вымышленного, подражая ему хвастливо и бездарно. Смысл по пути стирался, и за ним снова нужно было бежать к книге.
Короче, я не желал отдать простейшим Антипова. Напротив, ожидание того, что я могу встретиться с ним прямо сегодня, придавало силы. Цепочка была короткой: Тараблин — сыновья — Антипов. На четыре часа назначен митинг. У нас будет время все обсудить. Я был уверен, что в такой компании мы сумеем найти решение. Особенно грело то, что впервые в жизни принимать решение мне предстоит вместе с детьми.
Пребывание в Чертовом логове переставило в мозгу какие-то связи. Я то и дело набредал на воспоминания, на клочки и поломанные стулья воспоминаний, которые до того по праву лежали в кладовке и не путались под ногами.
Вспомнил, например, как Лера с детским восторгом рассказывала о молодом инструкторе по туризму. Он был молодой-молодой, но обзавелся седой бородкой и взрослыми смеющимися глазами. Дело было, кажется, еще в школе. Он был остроумен, изящен, галантен, разводил костер с одной спички, ставил под ветром палатку, не забывая улыбаться и шутить. Гитару брал в редкие минуты, но уж эти минуты…
Какую-то он пел им песенку. Дурацкую. Это очень важно, что дурацкую, потому что сам-то был, конечно, умен и глубок. И добр. И набит сведениями обо всем на свете. А песенка дурацкая. Потому что инструктор был легким человеком и хотел передать им эту легкость.
Бессмыслица такая, что и не вспомнить. «Кто-то шел, о чем-то пой-та. Что, мол, было там чевой-то. Что в большой пустыне ктой-то…» Именно так. Но из всего этого складывалась смешная история, вырисовывался нелепый, горячий, мечтательный человечек. Нелепость считалась тогда признаком подлинности. «Утром мыл лицо травой-то. Нет чтоб струей из брандспойта…» Не вспомнить. Да и бог с ним!
Но мне вдруг только сейчас стало понятно, что Лера всю жизнь любила этого инструктора. Потому и отозвалась так на рассказ о Нине. Узнала свою интонацию. А иначе как?
Выходит, мы с Лерой квиты. Крепкая семья, построенная из двух обломков любви.
Ах, каким я был бездарным отцом! Волчок, а не отец. Дети и цвета моих глаз, наверное, не помнят. Всегда убегал, опаздывал, здесь, но и уже, где-то, спешил мыслить, страдать и прочее. Когда им было насмотреться в мои глаза?
А и у них ведь, как у Леры, был свой уголок и свой герой. Звали его Жорой. Жил он в седьмом корпусе, в подвале. Старше моих ребят лет на восемь. В юности Жора занимался планеризмом, однажды разбился, да так удачно, что на всю жизнь остался калекой. Устроился в артель и занимался дома плетением декоративных корзин. Кроме того, весь двор таскал ему на починку обувь, в этом он был, говорят, настоящим изобретателем. При крайнем распаде ботинка накладывал заплату такого художественного свойства, что ботинок можно было продавать втридорога. Уже тогда у него имелись, например, полиуретановые набойки, которые были прочней железных и не скользили. Девчонкам виртуозно и бесплатно изготовлял обувь для кукол.
Мои парни приходили от Жоры всегда сильно вразумленными и добродушными. Словами не кололись, из движений исчезала нервная шарнирность. Книги читали только те, которые советовал или давал им Жора.
Сейчас этот Жора представился мне вдруг островком спасения. Тем островком, на котором укрываются дети. Он в курсе их дел, еще бы! Одобряет ли он их связь с Антиповым? Трудно сказать. Но мое исчезновение они наверняка обсуждали. Я почему-то верил Жоре. Возможно, Тараблин им все рассказал, и у них разработан какой-нибудь план? Чем можно помочь лично мне я не представлял, но сам факт того, что я мог быть предметом их интереса и заботы вызвал тепло в глазах и приятное чувство старости.
Антипов был, конечно, сумасшедшим. Он слишком буквально понимал жизнь. Достоинство было для него, вероятно, физической, вполне определенной величиной, с которой грамотный человек не может не считаться. С этой убежденностью его и нельзя было воспринимать иначе как невменяемого.
Я продолжал перебирать в памяти лица и людей, и все они казались мне сейчас ясными и понятными до последней своей черты. У ГМ была, очевидно, другая история. Он струсил. Под предлогом смерти сбежал от семьи. Но также было ясно, что бытовые обстоятельства в его случае не самое главное. Впервые мне пришло в голову, что формой трусости может быть интеллектуальная заостренность. Желание помочь природе возникает у человека, дошедшего до крайней степени отчаянья.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу