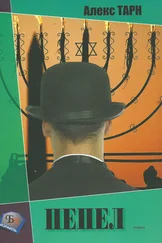Однажды Карамзин написал длинную поэму «Баллада об Амалии, старушке-врушке». Мне до сих пор кажется, что она была гениальная, но я не запомнил ни строчки, только гул, который остается после товарного поезда душной ночью.
Карамзин изобрел букву А, Которая Обозначала Иное, А Вовсе Не То, Что Все Думают. И он сочинял формулы. Наверно, издевался надо мной. Пользовался моей математической дистрофией. Он писал доказательства своих теорем в толстой тетради, вдавливая ручку в страницы — так, что оборотную сторону могли прочитать слепые. Если, конечно, слепых могла заинтересовать Теорема одной утопленницы или Теорема падающей пишущей машинки. Тетрадь Карамзин хранил в подвале их дома под диваном с потрескавшейся коричневой кожей.
Диван был архитектурной достопримечательностью двора. Трофей из роскошного Рейха. Мужественный лейтенант, который доставил диван из Мюнхена — для послевоенного счастья, — переоценил широту своего дверного проема. Коричневая кожаная чума покрыла бы пол-квартиры. Только подвал смог принять надменное животное. Там оно и дряхлело, не в силах выбраться из лабиринта водопроводных труб. Карамзин рассказывал мне, что именно на этом диване спал группенфюрер фон Люгнер с Брунгильдой. (Кто такая была эта Брунгильда?)
Я бы считал, что свою фамилию он тоже выдумал, но Карамзин предъявил мне паспорт пьяного отца, где так и было написано — Карамзин.
Добрый отец привозил Карамзину книги, которые скупал на развалах, — то «Занимательную физику» Перельмана, то сборник рассказов Борхеса, то «Дар» Набокова, то атлас «Грызуны СССР», то роман «Территория», не помню автора, но про геологов. Все их Карамзин читал очень быстро, сминая страницы и тихо посмеиваясь.
Наверно, мой друг был сумасшедший. Достаточно упомянуть, что спустя несколько лет, в день своего 18-летия, в переулке, где мы жили, в переулке под названием Вечность, Карамзин перережет себе вены, лежа на диване фон Люгнера.
А кроме Карамзина ничего интереснее в Таганроге не было.
До 19 часов 36 минут остается две минуты двенадцать секунд. Одиннадцать секунд…
Мы лежим с Катуар на полу, на расстеленной карте Аппенинского полуострова. Простыня на тахте так и остается залитой белой кровью Марка из бутылки итальянского вина. Я люблю итальянские вина. И Италию люблю, как сапожник — вкусный пирог, как пирожник — хороший сапог. (Почему, почему Христос был еврей по маме? Я бы поверил в него, если бы он был итальянцем.)
— А что это за блестящие штучки на секретере? — шепот Катуар достигает регистра ленцо-сопрано.
— Мои призы за сценарии. Не хватает лишь «Демиурга». Ты, диалогистка, не знаешь, как выглядят наши награды?
— Очень хочется курить, — смеется Катуар и встает.
На ее спине остается отпечаток кусочка Ломбардии. Она попросила постелить что-то, чтобы не портить такой прекрасный паркет. Я постелил мою райскую карту.
— Ты просто как мой Йорген, — отвечаю я и провожу нервным пальцем по ее позвоночнику. — Он тоже все время хочет курить.
— И с ним ты тоже трахаешься? — Катуар поворачивается.
— Нет. И перестань употреблять это слово. Тоже мне — диалогистка.
— Я вообще могу уйти.
— Нет, лучше кури. Кури.
Катуар приносит из прихожей одну тонкую сигарету. Делает круг, лаская паркет пятками, и улыбается:
— Ты меня чуть не убил. Два раза подряд. Интересно, родится ли у меня новый сюжет?
— От меня?
— Да. Я очень хочу сюжет от тебя! А что, зажигалки нет?
— Там, на кухне, где-то были спички. Кажется, рядом с плитой.
Катуар удаляется на пуантах, шуршит спичками и кричит с кухни:
— А зачем тебе спички, если ты не куришь?
— Для плиты, наверное.
— Она электрическая! — Катуар смеется. Слышно, как спички бесчувственно падают на мозаичный пол.
— Да? Какая неприятность…
— Так зачем?
— Роза говорит: в доме спички должны быть всегда под рукой.
— Роза? — Катуар выглядывает озабоченной Коломбиной, волосы свешиваются. — Кто это?
— Домработница.
— Молодая?
— Роза? Нет. Увядшая.
— Я сразу заметила, что у тебя подозрительно чисто на кухне и в ванной. Значит, Роза. А у меня на цветы аллергия. Может, у тебя еще и дети имеются?
— Нет. Только сюжеты.
— Минута десять секунд! — угрожает сквозь время на школьном дворе Карамзин.
Три года назад. Июль. Вагон электрички. Запах пионов и воблы.
Дочка дергает мою кожаную сумку фирмы «Хрен вам, а не лейбл!». Ремень сумки лихо скатывается с плеча и застревает в сгибе локтя. Я стою и держу перед липкими глазами книгу историка Буха «Старец». Дочка сидит рядом. Я дал ей свой телефон — поиграть. Лучший способ обрести недетский покой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
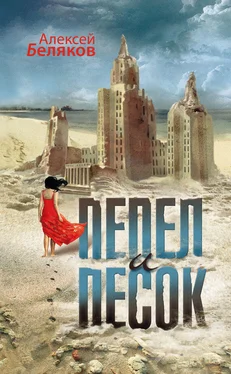




![Алекс Маршалл - Пепел кровавой войны [litres]](/books/416928/aleks-marshall-pepel-krovavoj-vojny-litres-thumb.webp)

![Алекс Маршалл - Пепел кровавой войны [исходный файл книги]](/books/420107/aleks-marshall-pepel-krovavoj-vojny-ishodnyj-fajl-thumb.webp)